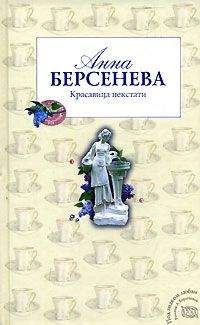В том, что это невозможно, она не сомневалась. Но именно это с нею и происходило.
«С третьего взгляда, – подумала она. – Я влюбилась в него с третьего взгляда».
От этой мысли она почувствовала такое счастье, какое чувствовала только в детстве, когда они с Сашкой прибегали с улицы и вдруг оказывалось, что папа вернулся из командировки, и он подхватывал их на руки сразу обоих, прямо на бегу, как только они, все в снегу или в летней пыли, врывались в квартиру, и мир менялся мгновенно, приобретал какой-то невиданный размах от того, что они с Сашкой смотрели на этот мир с высоты огромного папиного роста…
Это воспоминание соединилось в Верином сознании с другим – как Павел смотрел на нее тогда в кафе, и улыбка с какой-то осторожной недоверчивостью, даже робостью трогала его губы. И эти глубокие, лучами расходящиеся черточки на его губах… Она почувствовала, что счастье подхватывает ее, будто на руки, становится бескрайним и безбрежным, как сон… Сон окутал ее, закачал, затуманил голову…
И вдруг сон исчез, словно его холодной водой смыло. Вера не сразу поняла, почему это произошло. А когда поняла, то мгновенно села на кровати. Она почувствовала себя так, как будто именно сейчас, в эту минуту, могло произойти что-то такое, чего потом уже не исправишь, – что-то необратимое.
Вера оделась за полминуты – она даже не помнила, что натянула на себя.
Утро только набирало силу, и улицы были еще почти пусты. От Хорошевки до Митино Вера доехала за те же полчаса, что и ночью.
Квартира Киора встретила ее такой тишиной, как будто в ней не было ни души. Это мертвое молчание дома, в котором в полном одиночестве остался ребенок, показалось Вере таким жутким, что мурашки пробежали у нее по спине. Она вдохнула поглубже, чтобы успокоиться, и прошла в кухню. Там горел свет, хотя за окнами давно было светло.
Миша с ногами сидел на табуретке. Наверное, он уже лег спать, а потом зачем-то, не одеваясь, вышел в кухню. Голые коленки остро торчали прямо у него перед носом. Если бы не эти коленки, Вера, может, не сразу и поняла бы, что с ним происходит: при ее появлении он быстро отвернулся, чтобы она не могла разглядеть его лицо. Но коленки… Они были мокрые, как будто Миша их облил. То есть он и в самом деле их облил, только не водой, а слезами.
– Миша… – Вера сделала к нему шаг и остановилась. – Ты…
Он как-то резко дернулся, поднял глаза. Только теперь она наконец его разглядела – до этого и вспомнить не могла, какой он, и даже не знала, сколько ему лет.
Лет ему было одиннадцать или двенадцать. Он был похож на взъерошенного вороненка – темноволосый, темноглазый. Глаза были не просто темные, а огромные и глубокие, как ночное небо. Таких глаз не было больше ни у одного из сыновей Киора.
Сейчас они казались еще больше, потому что были полны слез, хотя слез из них пролилось уже столько, что и коленки залило, и даже, кажется, пол под табуреткой.
– Что вам надо? – проговорил Мишка и скрипнул зубами.
«Чтобы слезы остановить», – поняла Вера.
Это ему почти удалось. Но только почти – горло его судорожно дернулось, из него вырвался всхлип, Мишка уткнулся лицом в колени и зарыдал так, что затряслись, ходуном заходили худенькие плечи.
Вера бросилась к нему.
– Миша, Мишенька, ты что? – Она присела перед табуреткой, пытаясь снизу заглянуть ему в глаза. – Что случилось? Ты испугался один, да? Ну я и дура!
– Нич-чего… не… случ-чилось… – с трудом расслышала она. – Пошли вы все!.. Зачем вы… только вид делаете?!
Он снова резко дернул подбородком, поднял голову. В глазах у него стояло злое отчаяние.
– Какой вид? – растерянно спросила Вера. – Кто делает?
– Все! И вы сейчас. И он…
– Кто – он? – И тут она догадалась. – Папа, да?
– Он! – Видно было, что Мишка не собирался откровенничать, но слова рвались из него сами, сами… – Он думает, я поверю, что он ко мне точно так же относится, как к Гришке с Тохой!
– Но почему же ты думаешь, что он относится к тебе не так? – осторожно спросила Вера.
Ничего она не понимала! С этим мальчиком, про которого она почти забыла, да что там – которого только сейчас толком разглядела, была связана такая сторона жизни Павла Киора, о которой она не имела представления.
То есть она, конечно, поняла при этих Мишиных словах, что он ревнует отца. Точно так же, как Антон. Нет, не так же! Ревность Антона была обыкновенная, мальчишеская, ее легко было развеять. Да со временем она и сама прошла бы, как проходят все подростковые представления о принципиальной враждебности мира. А у этого мальчишки ревность таилась в самой глубине души. Может, это и не ревность была? Это чувство было так же непонятно, как его глаза.
– Почему ты думаешь, что папа относится к тебе как-то не так? – повторила Вера.
– Потому! Потому что он все мне разрешает.
– Что значит все? – не поняла она.
– То и значит. – Мишкины глаза лихорадочно блестели, плечи вздрагивали, как от плача, хотя слез уже не было. – Что я захочу, то и разрешает.
– Но разве это плохо? – спросила Вера.
– Это… никак. Никак! Вот вам я никто – и вы мне что я захотел, то и разрешили. Одному в доме остаться… Даже дверь вам разрешили не открывать. И он все разрешает. Тоха скажет, что в ванной, например, убирать не будет, он ему: «Нет, будешь». И тот никуда не денется, уберет. А я что-нибудь самое… Ну, совсем дурное что-нибудь скажу – например, что в школу не пойду, и он разрешает. Пусть бы лучше по шее врезал.
– Миша, ну что ты говоришь! – воскликнула Вера. – Разве это лучше?
– Лучше, – убежденно сказал Мишка. – Когда кому-нибудь что-нибудь не разрешают, значит, волнуются за него. А когда все разрешают, значит, все равно.
– Я думаю, ты ошибаешься, – стараясь, чтобы в голосе звучала абсолютная уверенность, сказала Вера. – Папе не может быть все равно. Ты же его сын!
– Никакой я ему не сын. Мало ли что там в бумажках написано!
– При чем тут бумажки? – растерялась Вера.
– При том! – Слова вырывались из Мишиного горла резко, глухо, как будто пробиваясь сквозь спазмы. – Он на матери женился, когда мне десять лет уже было. А когда я родился, они даже знакомы еще не были. Я у деда с бабкой специально спрашивал, они говорят, мать меня от уголовника нагуляла, и он тут совсем ни при чем. Тоха и Гришка его, ну так их и любил бы. А я не просил меня усыновлять. Сдали бы в детдом! Когда мама… Ведь она…
Вера поняла, что если Мишка произнесет еще хоть слово, то разрыдается опять. Да он и не мог больше произнести ни слова: спазмы пережали ему горло.
– Миша, – сказала она, – давай мы сейчас про это говорить не будем. Совсем не будем, ладно? Я тебя об одном прошу: поехали со мной.
– Куда? – хрипло выговорил Мишка. И тут до него, видимо, наконец дошло, что перед ним стоит совершенно незнакомая женщина и он рассказал ей то, что не всегда рассказывают даже очень близким людям. – А вы тут зачем? – Он наклонил голову, посмотрел исподлобья. – Вы кто вообще?