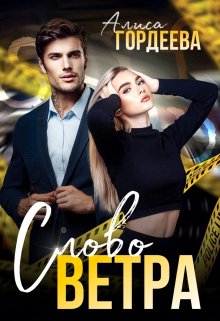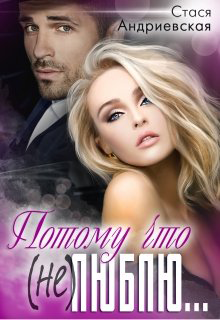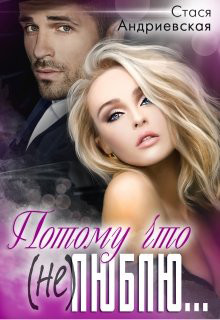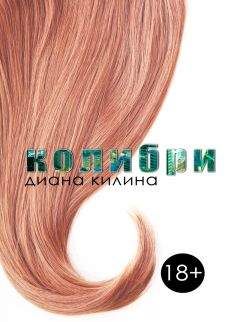слабее становится Нана. Она из последних сил пытается удержать фонарик на весу, но тот все сильнее дрожит в ее руках.
— Пожалуйста, девочка моя, не сдавайся! — опускаюсь на верхнюю ступеньку и, усадив Марьяну к себе на колени, ладонями касаюсь ее измученного лица, жадно целую, чтобы очнулась, шепчу отчаянно, как люблю, но свет моего маяка становится все более тусклым и в какой-то момент просто гаснет.
— Нет! — из груди вырывается истошный вопль. — Не спи! Не вздумай! Дыши, Марьяна! Дыши!
Трясу девчонку что есть мочи, чтобы не смела закрывать глаза, но моя Нана больше меня не слышит.
— Ветер! Пробуй дату смерти Булатова!
— Сава, набирай! Один… Один… Шесть…
Голоса за дверью сливаются в один сплошной гул. Меня окутывает странное чувство безысходности, смешанное с ощущением собственного поражения и невыносимой болью утраты. Я бы и рад подняться, но больше не вижу смысла. Хотел бы бороться, но понимаю, что больше не за что.
Сжимаю в руках бесчувственное тело Марьяны и впервые в жизни плачу: я так долго искал свой свет и так бестолково его потерял.
— Ветер! Ты там живой! — не унимается Грачев и дубасит по металлической двери чем-то тяжелым. До мерзкого скрежета и невыносимого грохота. Такого громкого, что, того и гляди, лопнут перепонки в ушах. — Отвечай, Савка! — надрывно орет и с новой силой разносит чертову дверь.
А я прижимаю к груди Нану и не могу вымолвить ни слова. Без нее не получается!
Закрываю глаза - если нам и суждено сгинуть в этой тьме, то вместе!
Рядом.
Навсегда.
Марьяна.
Моё пробуждение — тяжёлое, с чугунной головой и невыносимой жаждой. Тело гудит и ноет, а мысли неуправляемо разлетаются в разные стороны.
Я открываю глаза и снова ощущаю боль. Такое чувство, что под веки насыпали речного песка — мне требуется время, чтобы привыкнуть.
Вокруг светло. Тихо. И наконец-то тепло. А ещё пахнет чем-то вкусным: выпечкой и малиновым чаем. Пытаюсь улыбнуться, но наверно, получается убого.
Через силу поворачиваю набок голову — хочу осмотреться. Хоть убей, я не помню, где я и как здесь оказалась. Мои воспоминания обрываются темнотой, и я запрещаю себе к ней возвращаться даже в мыслях.
Знакомое окно, занавески в цветочек, обои в светлых тонах и перьевая подушка под головой — что-то безумно далёкое и безвозвратно потерянное, как шёпот ветра из прошлого.
Я дома.
На прикроватной тумбочке — огромный букет ромашек. Стакан воды. Мой телефон.
А чуть поодаль, у входа в ванную, стоит мама. Её волосы в непривычном беспорядке, а на лице — ни грамма косметики. Зато я отчётливо различаю тонкие дорожки из слёз на щеках и тихое “прости” на её бледных губах.
Понимаю, что тоже плачу. Хочу кивнуть и сказать, что люблю. Вопреки её обидам и ненависти, сухости и безразличию. Но сил отчаянно не хватает.
— Я помню, как ты не выносишь больницы, — всхлипывает мама и несмело подходит ближе. — Поэтому, как врачи разрешили, привезла тебя сюда. Надеюсь, ты не против.
Молчу. Не против, наверное… А вообще, всё равно: в моём сердце зияет необъятных размеров дыра, а непрошеные воспоминания о той страшной ночи в подвале так и норовят вылезти наружу. Я их боюсь настолько сильно, что даже внезапно проснувшаяся материнская любовь меня не спасает.
— Где Сава? — с трудом шевелю губами и чувствую, как начинаю по новой задыхаться оттого, что, вместо моих слов, комнату заполняет невнятный хрип.
— Хочешь воды? — мама помогает мне сесть и подносит ко рту стакан.
Мотаю головой, но пью. Точнее, просто увлажняю губы. На большее неспособна: всё вертится перед глазами, а слабость оливковым маслом растекается по телу.
— Где Сава? — повторяю вопрос в надежде, что тот сможет обрести форму слов. — Мне нужно к нему! — но снова выходит глухо и спутанно.
Мать хмурится, пытается меня понять… Но видимо, за эти годы мы стали слишком чужими и незнакомыми.
— Врачи сказали, что ты родилась в рубашке, Нана! Ещё немного и …
— Сава! — окутанный диким ужасом стон сотрясает стены комнаты и наконец достигает цели: мама вздрагивает, словно впервые слышит мой голос.
— Сава? — торопливо уточняет и, глубоко вдохнув, садится на край кровати. — Савелий в соседней комнате. Я едва уговорила его немного поспать. А он изменился…
Мать замолкает. О чём-то думает, наверно, подбирает слова. Я знаю, как она ненавидит Ветрова, но сейчас мне всё равно. Сава здесь, он жив — остальное неважно!
— Марусю твою мы тоже забрали. Она забавная. На тебя маленькую чем-то похожа…
В уголках материнских глаз проступают морщинки, мягкая улыбка не скрывает боли. Неловко мама касается кончиками пальцев моей ладони и, едва сдерживая слезы, тихо шепчет:
— Ты прости меня, дочка, если сможешь…
Не сразу, но киваю. Её равнодушие я простила давно, как и слова все, брошенные сгоряча в самое сердце.
— Я виновата перед тобой, перед Ветровым, перед Игорем…
Кручу головой, не желая слушать. Я не в том состоянии, чтобы выдержать тонну откровений, да и судьба Савы волнует меня сейчас куда больше материнских признаний. Да только мама, как и всегда, сконцентрирована исключительно на себе.
— Я же видела, как отец твой места себе не находил в последние дни, — сжимая мою ладонь, мать с головой окунается в прошлое, а я закрываю глаза и пытаюсь не упустить смысла сказанных ею слов, да только с именем Савы на губах я незаметно проваливаюсь в сон.
Когда я просыпаюсь в очередной раз, мамы в комнате уже нет. В спальне царит полумрак, разбавленный жёлтым свечением ночника, а на тумбочке красуется новый букет с цветами. За дверью раздаётся приглушённый детский смех, в котором,без сомнений, узнаю Марусин. Я вспоминаю слова мамы о крохе и несказанно радуюсь, что моё веснушчатое счастье рядом, что с ней всё хорошо, а судя по брызгам смеха , так и очень.
Я улыбаюсь. От уха до уха. Отмечаю про себя, что делать это становится проще с каждым разом, а потом хочу повернуться набок, чтобы встать, но что-то тяжёлое и горячее буквально прижимает меня к кровати.
Опираясь на согнутую в локте руку, Ветров бесстыже валяется рядом и свободной рукой жадно притягивает меня к себе.
— Привет! — его нежный голос ласкает слух и моментально возвращает к жизни. Лучше,