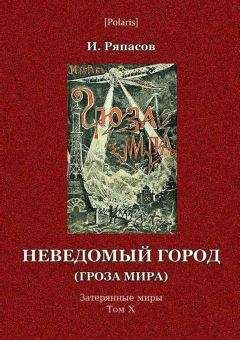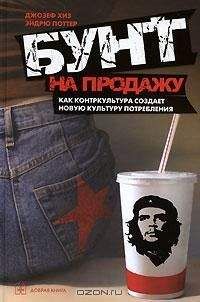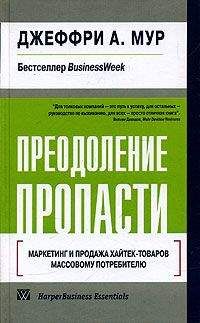Казалось, все пространство нарезано пластами – широкими, плоскими, будто простыни, наваленные стопкой одна на другую. И теперь, расстилаемые плавными взмахами, простыни колыхались, каждая отдельно, по-своему, в своем собственном волнообразном движении. От их хаотичного волнения тут же закружилась голова, и к горлу неожиданным сильным рывком вдруг поступила тошнота.
Элизабет открыла рот широко, как рыба, попыталась заглотнуть в себя побольше прохладного, резкого воздуха. Но воздух не облегчил, и неловкий, шероховатым ком, стоящий в горле, разом не удержался и крупной горячей волной рванулся вверх. Элизабет только и успела, что перегнуться, упереться рукой в стоящее рядом дерево; спазмы сдавливали живот, поднимались наверх, вырывались из беспомощно растворенного рта пугающей густой струей.
«Я шланг, – почему-то подумала Элизабет. – Из меня хлещет, как из шланга, с таким же напором». Она даже усмехнулась про себя. Вот еще одно применение рта – быть шлангом. Спазмы не отпускали, густота продолжала скользить наружу. «Надо же, – вновь подумала Элизабет, – я не просто шланг, я шланг под давлением».
Потом, когда густота исчерпалась, изо рта полезла слизь, наверное, с самого дна, вперемешку со слюнями. Элизабет пыталась отплеваться, освободиться от липкой тянущейся струйки, но на смену одной, порванной, проступала новая, не только изо рта, но и из носа, из глаз, – казалась, вся жидкость, которая накопилась в теле, выходит наружу. «Во всяком случае, в верхней его части», – подумала Элизабет и усмехнулась снова.
Она представила себя со стороны – согнувшаяся пополам девочка в легком нарядном, наверняка перепачканном платье, в туфлях на каблуках, одной рукой опершись о дерево, другой поддерживая себя за живот, наводняет улицу не до конца переваренными внутренними соками. Тихую, ночную, чистенькую, ничем не потревоженную улицу, срисованную, казалось, с детской книжки. Просто идеальную улицу. Да и девочка не плохая. И надо же, заблевала все, что только можно.
Стало смешно. Наконец излияние приутихло, во всяком случае изо рта, хотя глаза еще слезоточили, да и нос хлюпал вовсю. Но кого волнуют глаза и нос? Главное, что можно выпрямиться, попытаться отдышаться.
– Надо же, – проговорила Элизабет хриплым, полным мокрых, крупитчатых добавок голосом – она сама ему удивилась. А потом снова: – Надо же. Что же они в меня вливали? Хорошо, что насмерть не отравили.
Как ни странно, ей стало лучше, для проверки она вобрала в себя побольше воздуха, вытерла рукой губы, – руке сразу стало липко и холодно, но больше вытирать было нечем. Голова тоже немного прояснилась, будто пьяная, хмельная жижа вылилась именно из нее, освобождая. Элизабет решилась и оставила устойчивую надежность дерева, сделала несколько шагов, стараясь не наступить в лужу с рваными, разбрызганными краями. Оказалось, что и ноги теперь держали надежнее.
«Что же они там делали со мной?» – подумала Элизабет, пытаясь вписать себя в расстилающуюся вокруг нее ночь. Теперь ночь стала единым целым, она не распадалась на плоские куски, как еще недавно, а если и колыхалась, то только тихим, теплым, поднимающимся вверх воздухом.
«Они могли сделать со мной все что угодно. Я же была совершенно не в себе, даже не помню ничего. Наверное, и сделали, иначе почему на мне не было трусиков?»
Как ни странно, догадка совсем не испугала ее. Ведь она была совершенно невменяема. И даже если что-то и произошло, то все равно без ее согласия. А значит, она не участвовала. Она не была в ответе за случившееся, каким бы оно ни было.
«Главное, не забеременеть, – снова подумала Элизабет, – ну, если этот кобель залез в меня своим отростком».
Но мысль о беременности была слабой, не конкретной, почти невероятной и никак не встревожила. Наверное, сознание было по-прежнему притуплено, как и чувство опасности, как и инстинкт самосохранения. Самое главное было добраться до дома. Вот что было главное.
Уже недалеко от ее дома спазмы снова подкатили к горлу, так что пришлось остановиться, снова упереться руками, на сей раз в фонарный столб; он светил слишком ярко и прямо под собой, но выбрать другую опору Элизабет уже не успевала. Она успела только перегнуться и приготовиться к извержению, приготовиться вновь стать шлангом. Но на сей раз шлангом ей стать не пришлось. Спазмы, хоть и пытались поднять остатки из желудка, но тот, видимо, опустел, и они только взрыхляли раздраженное дно. Так, простояв минуты три в бесполезном ожидании, Элизабет оторвалась от столба. До дома было совсем близко, и уже через несколько минут она дергала ручку тугой двери.
Она так и знала – Влэд стоял перед ней в коридоре: красные впалые щеки, истончившиеся в ниточку губы, жалкие, бегающие, полные тоски глаза. Теряя по дороге туфли – сначала одну, потом, через шаг, другую, – немного покачиваясь, пытаясь поймать ускользающее равновесие, Элизабет прошла мимо него не замечая, будто его и не было. И только когда она уже была в гостиной, когда подходила к лестнице, он, похоже, опомнился, догнал ее, попытался схватить за руку.
– Где ты была? Что с тобой? Что случилось? – кричал он, но голос тек мимо и растекался, и накал его не достигал слуха Элизабет.
Она сделала еще несколько шагов не отвечая, вообще не реагируя. И только когда он крикнул: «Ты слышишь? Отвечай, когда я с тобой разговариваю» – и дернул ее за руку, пытаясь остановить, она резко отмахнулась, освобождаясь от него.
– Да пошел ты, – только и ответила она и оставила его, ошарашенного, позади.
В спальне она включила свет, посмотрела на часы, – оказалось, было совсем не поздно, около одиннадцати, – потом вспомнила про телескоп, направленный на ее окно, и выключила свет. А затем рухнула на кровать, не раздеваясь, не умываясь, пропитанная едким запахом собственных отравленных внутренностей, которого она, впрочем, не слышала. И тут же провалилась в тяжелый, мертвый сон.
Когда она проснулась, было светло, в окно светило солнце. В принципе, она чувствовала себя вполне сносно, только почему-то ломило ноги, как если бы она пробежала десять миль. А еще ощущение собственной разящей неопрятности – оно досаждало сильнее всего. Именно оно заставило Элизабет подняться и тут же скинуть с себя всю одежду – хотя и одежды-то особенно не было, платье, и то было расстегнуто. Она прыгала на одной ножке голая, стаскивая с ноги носок, и думала, что эти, наверное, сейчас смотрят на нее в телескоп.
Ну и ладно, ей было совершенно безразлично. Все, что они хотели разглядеть, они уже наверняка разглядели.
Потом она наливала ванну, потом бессильно лежала в ней – долго, чувствуя, как очищается каждая частичка ее тела. В ванне она снова уснула и проснулась, потому что голове стало жестко и неудобно на керамическом бортике, да и вода остыла. Она старательно промыла волосы, долго оттирала тело намыленной губкой, чистила зубы и наконец привела себя в порядок.