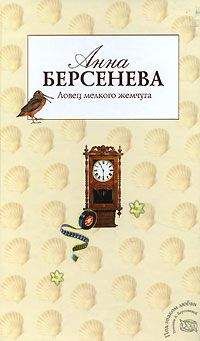Туфли он сначала оставил в прихожей, но потом подумал вдруг, что Ули обидится, решит, что он не взял их как-то демонстративно – забирай, мол, свои подарки, – и бросил туфли в сумку поверх своего громоздкого телефона.
Потом положил на стеклянный столик ключи, забросил сумку на плечо и вышел из дома в Николопесковском переулке.
Георгий стоял перед своей обшарпанной дверью и с недоумением смотрел на прикрепленную к косяку белую бумажку с невнятым синим оттиском и приляпнутым куском чего-то коричневого на ниточках. Он приехал в Чертаново поздно, уже в темноте – бродил зачем-то по городу, как будто это могло его успокоить, – и теперь ему показалось, что от этих блужданий у него просто что-то сдвинулось в голове. Что могла означать бумажка с казенной печатью?
Неизвестно, сколько он стоял бы так, тупо глядя на свою дверь и вяло соображая, что делать – сорвать бумажку, позвонить куда-нибудь, а куда? – но тут телефон запиликал в сумке, и Георгий выудил его из-под английских туфлей.
– Турчин Георгий Иванович? – услышал он мужской голос, такой же казенный, как печать на бумажке. – Наконец-то вас отыскали. Что же по месту прописки не проживаете? По месту временной регистрации то есть. – Звонивший сделал особый, идиотски-значительный упор на слове «временной».
– Да вот стою перед местом временной регистрации, – ответил Георгий. Он таких голосов слышал сотни в десятках казенных мест, так что этот незримый собеседник не сумел вызвать у него даже легкую оторопь, на которую, скорее всего, рассчитывал. – Что это у меня тут за печать на двери?
– А в почтовый ящик заглядывали? – поинтересовался голос. – Повесточка вам там оставлена в милицию, вручить-то не удалось.
– По какому вопросу повестка? – спросил Георгий.
Он давно уже заметил, что в официальных ситуациях мгновенно начинает говорить теми же словами, что и его собеседники. Ему даже противна бывала собственная хамелеонистость, но, надо признаться, она всегда оказывалась кстати.
Видимо, это почувствовал и звонивший. Во всяком случае, он переменил тон и спросил спокойно, чуть устало:
– Можете сейчас зайти, Георгий Иванович?
– Могу, – ответил Георгий. – Куда?
– В райотдел милиции к старшему лейтенанту Ломакину, ко мне то есть. Адрес запишете?
– Так запомню. А не поздно сейчас?
– Какое – поздно? – вздохнул Ломакин. – У меня тут проверка завтра грядет, хоть бы к утру бумаги разгрести с большего.
Старлей Ломакин был похож на свой голос – простолицый, хронически усталый или просто делающий вид, что усталость у него не разовая, предпроверочная, а хроническая. Да и с чего бы ему было иметь отличный от внешности голос, не актер же он.
Проверив Георгиев паспорт, Ломакин сказал:
– Временем, Георгий Иваныч, я располагаю небольшим, поэтому сразу перехожу к делу, протокол потом напишем. Флинт Нина Игоревна знакома вам?
– Конечно, знакома, – вздрогнул Георгий. – А что она натворила?
От Нинки можно было ожидать чего угодно, вплоть до склада наркотиков в его квартире, но сейчас он думал не о том, что знакомство может оказаться для него некстати, а только о ней самой. Что с ней случилось и где она, раз уж его вызывают по ее поводу в милицию?
– Да уж что натворила, так это точно, что натворила, – покрутил головой Ломакин. – Большие неприятности она тебе натворила, не знаю, как и отмажешься. Из окна твоего она сиганула, такие вот дела.
Тишина, повисшая в комнате, была такой жуткой, что Георгию захотелось скрипнуть стулом. Но и этого он сделать не мог – его словно облили ледяной водой на сорокаградусном морозе.
– Живая… она?.. – наконец выговорил он.
– У тебя какой этаж-то, помнишь? – Ломакин посмотрел уже не с милицейским прищуром, а сочувственно: наверное, вид у Георгия был соответственный. – Кошка, и та бы насмерть разбилась.
– Когда? – спросил Георгий мертвым голосом.
– А вот в прошлое воскресенье и было, – заглянув в лежащие перед ним бумаги, сказал Ломакин. – В пятнадцать ноль-ноль, все соседи видели. Бабка на лавочке сидела у подъезда, так с гипертоническим кризом в больницу увезли.
– Кого?
– Бабку, кого ж еще, – терпеливо объяснил Ломакин. – Не ее же… Так что, Жора, давай вспоминай, где ты в это время был и кто тебя видел.
Вспоминать тут было нечего: в прошлое воскресенье Георгий до вечера сидел в ресторане «Гранд-отеля» и безуспешно пытался вырваться из объятий Семы Молотка, который считал, что лучшая благодарность за «крутую хату» – это совместно выпитый литр-другой коньяка.
– Подтвердит он, если что? – деловито поинтересовался Ломакин, когда, с трудом ворочая языком, Георгий сообщил ему об этом. – Да вообще-то подтвердит скорее всего, – тут же решил он. – Это ж у братков святое дело, неповинного человека от ментов отмазать. Да и повинного тоже. Ладно, Иваныч, расслабься, – вдруг улыбнулся он. – Не было тебя в квартире, это факт установленный. И что не живешь ты с ней уже давно, и не встречаешься – тоже подтверждено. Мамаша подтвердила, – объяснил он. – Мамаша на отдых ездила в Испанию. Ну, приехала, дочки нету, она в милицию, тут девку и опознали. А то лежала как бомж, ни документов, ничего, и где владелец квартиры – неизвестно. Мамаша телефон твой сегодня только вспомнила, после похорон. Бестолковая тетка. Хоть, конечно, после такого не то что телефон, имя свое забудешь… А у девки ума хватило хоть записку написать, так что тебе алиби, по сути, и не нужно.
– Как же опознать не могли, если записку написала?
Мертвенный холод сменился в голосе Георгия лихорадочным жаром так мгновенно, что Ломакин удивился.
– Смотри, соображаешь не туго! – хмыкнул он. – Ну, конечно, если ты с ней не жил уже… Чего тебе до нее? Да записка-то шизоватая. На зеркале помадой написала, какая там подпись! Но почерк точно ее, уже идентифицировали. И где они этого набираются, дуры – зеркало, помада! В сериалах, что ли?
– Что? – спросил Георгий.
– Что – что?
– Что написала?
– Ну, что они пишут? Люблю, жить без тебя не могу… Ничего умного. Да сам почитаешь дома, мы не стирали. Печать можешь срывать, дело я закрываю, поскольку факт самоубийства установлен. Мог бы я, конечно, на предмет доведения до самоубийства тебя проверить, но не буду. Все ясно, а мне, сам видишь, писанины и так хватает. – И, словно объясняя свою чрезмерную человечность, Ломакин добавил: – Я же понимаю… Любил – не любил, виноват – не виноват, а душу ее за плечами теперь носить – радости мало. Парень ты, видно, и сам душевный, тебе по гроб жизни хватит.
«Душу ее за плечами носить… за плечами… носить…»
Всю дорогу до дома вертелись у него в голове эти слова. Он не знал, где теперь Нинина душа, но что-то давило на него так страшно и сильно, что он чувствовал, как сгибаются под этой тяжестью плечи.