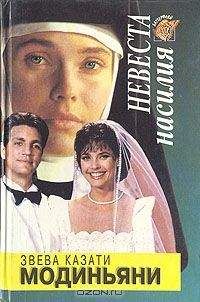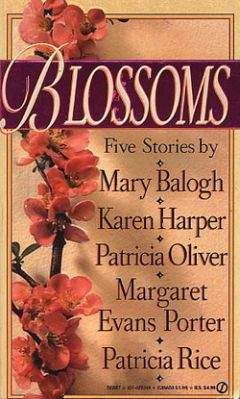— Да, — снова начал Чезаре, — пусть эта идея поставить войну на колеса пока что удалась им, но она заведет их слишком далеко. Они ошибаются, считая американцев пьяными дураками. И своему пакту о ненападении, который заставил замолчать Россию, они тоже придают слишком большое значение. Они считают ее колоссом на глиняных ногах, но это колосс, который себя еще покажет.
По контрасту с этими разговорами радио передавало наивную песенку, полную розового оптимизма, о счастье двух влюбленных.
— Муссолини заявляет, что унизительно сидеть сложа руки, когда другие пишут историю. — Пациенца курил одну из своих американских сигарет. — И теперь наши газеты бодро готовят народ к войне. Бок о бок с ненавистными немцами, ставшими теперь нашими «славными союзниками национал-социалистами».
— Это обещание, данное дуче немецкому послу, когда ему объявили о нацистском нападении на Норвегию, — пояснил Чезаре для Марии. — «Я прикажу печати и народу рукоплескать Германии». И печать в точности все исполнила. Они едят это дерьмо и в то же время фрондируют. Я ничего не хочу сказать, Боже упаси, но нельзя же есть с грязной тарелки этого режима и спасать свою душу с помощью анекдотов, где высмеивается Муссолини, перед которым все пускают слюни. Я уважаю тех, кто является фашистом по убеждению. Уважаю и тех, кто с фашизмом борется. — Он взглянул на Марию, которая продолжала равнодушно вязать, словно вовсе не следила за разговором.
— Ты скучаешь? — спросил он, обеспокоенный этим молчанием.
— Нет, я слушаю радио. — Мария подняла свое красивое лицо от работы и с улыбкой взглянула на него. Она была безмятежна.
Закончив работу, она поднялась, и двое мужчин из уважения сделали то же самое. Она была прекрасна и казалась живым воплощением материнства.
— Продолжайте, — посоветовала она им с непринужденной простотой хозяйки дома, покидающей гостей. И Пациенца это отметил. Из растерянной и смущенной девчонки, какой она явилась сюда год назад, она превратилась в уверенную в себе женщину. — Извините, — но если я упускаю мое время, у меня пропадает сон.
Чезаре обнял ее, Пациенца поцеловал ей руку.
Ветреным апрельским днем четверо мужчин в двубортных костюмах, черных галстуках и мягких шляпах, вразвалочку, как свойственно полицейским, явились в палаццо на Форо Бонапарте.
— Что вам нужно? — спросил Амброджино, подошедший открыть.
Заговорил самый угрюмый и наглый, с приплюснутым носом, оттопыренными ушами и испорченными зубами.
— Здесь работает Мария Мартелли, по мужу Милькович? — спросил он.
— У нас есть синьора Мария, — сообщил слуга, — но я не знаю, ее ли это имена, что вы назвали. — Он не решался открыть дверь и держал ее прикрытой, разговаривая с незнакомцами через узкое окошко в двери, как монах-привратник в монастыре.
— Она в услужении здесь? — осведомился мужчина с презрительным видом.
— Синьора Мария? — тянул время Амброджино, не зная, как лучше ответить.
— Слушай, ты, — вмешался тип, которому другие подчинялись. — Не валяйте дурака, ты и твоя синьора! — Он яростно толкнул дверь, отбросив Амброджино к большой вазе с цветами, стоявшей в прихожей.
— Что это за манеры! — возмутился, потирая ушибы, бедняга. Будь это в его собственном доме, он бы и рта не раскрыл. — Да вы знаете, — набрался он храбрости, — вы хоть знаете, куда пришли?
— ОВРА, — угрожающе сказал главный, ткнув ему в лицо знак тайной фашистской полиции, в то время как другие стояли вокруг, угрожающе глядя на него. Казалось, все это происходит в каком-то гангстерском фильме.
— Что-что? — попытался понять Амброджино, который в политике разбирался не больше ребенка.
— Полиция, — пояснил ему главный, обнаружив несомненный южный акцент.
— Ну, а при чем же тут синьора Мария? — тянул время Амброджино, который хотел уберечь хозяйку от лицезрения этих рож, скорее с каторги, чем из полиции.
— Меньше болтай, — пригрозил ему тот. — Покажи-ка нам эту Марию.
— Я здесь, — сказала Мария, появляясь в дверях гостиной. У нее был гордый и независимый вид хозяйки старинного замка. На ней было широкое светлое платье, она была бледна от волнения, но готова и защищаться, и нападать.
Главный полицейский тут же сменил выражение лица со свирепого на почтительное.
— Простите нас, синьора, — извинился он, — мы ищем вашу горничную. Некую Марию Мартелли, по мужу Милькович.
— Это я Мария Милькович, — с достоинством произнесла она.
— Вы?.. — Он оглянулся на остальных — те ответили ему растерянными взглядами.
— Итак? — Мария властно посмотрела на них. В ее светло-карих глазах сверкало негодование.
— Я должен просить вас следовать за нами, — сказал этот тип, но без прежней спеси.
— Куда? — Она была неподвижна и подавляла его своим спокойствием.
— В комендатуру, — сообщил он. — У меня приказ доставить вас туда.
— Вы отдаете себе отчет в моем положении?
В другом доме перед другим человеком эти люди вели бы себя совершенно иначе.
— Мы должны выполнить приказ, синьора, — сказал он с суровостью человека, готового ради приказа на все.
— Хорошо, — сдалась Мария, — но я уверена, что вы возьмете всю ответственность за насилие, которое совершаете, на себя. — Она знала, что за нее есть кому заступиться, и хотела, чтобы этот тип тоже знал.
— Естественно. — Он поклонился, подражая благородному человеку, но его уверенность пошатнулась. Он явился сюда, чтобы доставить к начальству служанку, подозреваемую в подрывной деятельности, поскольку она была женой бунтаря, а вынужден сопровождать женщину аристократической внешности и в интересном положении. Сомнения терзали его. — Так вы Мария Мартелли, по мужу Милькович? — снова задал он вопрос и хотел добавить «или синьора Больдрани»? — но не хотел опозориться, как это только что с ним случилось.
— Да, я синьора Мария Милькович, — заявила она, отдавая себя в распоряжение агентов в штатском.
Она вышла за дверь, гордая, как королева, сопровождаемая четырьмя мужчинами в штатском, которые выглядели бы полицейскими, будь на них даже изысканный вечерний костюм. А секунду спустя, повинуясь ее выразительному взгляду, Амброджино уже звонил в офис Чезаре Больдрани.
Мария вошла в убогий кабинет апатичного чиновника, который тут же велел ей сесть на потертый стул. На стенах висели портреты короля и Муссолини, а прямо перед ней — распятие.
— Если вы нам поможете, мы закончим быстро, — сказал чиновник. Это был человек среднего роста, сухой, как палка, с болезненным серым лицом и кривым выступающим носом. Казалось, он испытывает глубокое отвращение ко всему, что отвлекает его от собственных болезней и невеселых мыслей, связанных с ними.