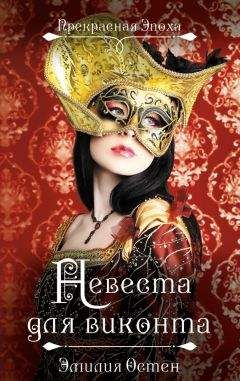– Так, может, преподать вам урок красивого сражения?
– Это для дуэлей. А я на дуэлях не дерусь. Знаете ли, Господь против.
Он прошел к столу, на котором стоял кувшин с водой, налил воды в кружку и выпил. Я глаз не могла от него оторвать. Без своей сутаны отец Реми преобразился; оказалось, у него красивые ноги, и весь он опасен и тих, как полуголодный хищник. Куда он прячет эту живость во все остальное время? Отчего она дает о себе знать лишь иногда – в танце и битве? Наверное, он думает, что нужно подавлять природу, что заунывное бормотание молитв Господу угоднее, чем живое движение, чем смех, чем острота взгляда. Наверняка молится об этом проклятом смирении, низводит свою душу в паутину и серость, лишь бы не нагрешить, лишь бы вымолить у Бога кусочек рая побольше, как у короля выпрашивают надел побогаче.
Я знаю, как священники убивают плоть. Знаю, как достигают религиозного экстаза, как хлещут себя по спине плетью-семихвосткой, изгоняя даже крохотные мысли о мирском. Когда я приходила к отцу Реми в келью, то не видела плети, но и спину его не видела; вполне возможно, он фанатик, вечно казнящий себя за простой факт, что жив. Что он больше, чем хочет церковь. Самому себя ломать, смирять и никогда не достигать совершенства – это ли не ежедневная пытка, это ли не испытание для сильной, но запертой в клетку души?
Отец Реми вернулся на середину зала и снова встал в боевую стойку, я поднялась и вышла.
Не могла я больше на это смотреть.
За завтраком мы все помалкивали. Просидели, косясь друг на друга, я комкала хлебный мякиш и старалась ни на кого не смотреть. Отец Реми вел себя как обычно: прочел молитву, роняя с сухих губ продолговатые жемчужины латинских слов, молитвой же завершил трапезу, пожелал всем удачного дня и ушел к себе в капеллу. Я ускользнула в свои комнаты и еле дождалась полудня, чтобы отправиться к исповеди.
Отец Реми поджидал меня вновь на первом ряду, вновь за чтением молитвенника – ничего не изменилось. Я села рядом с ним.
– Не знала, что вы фехтуете с моим отцом.
Он закрыл молитвенник.
– Думаете, это плохо?
– Ничего такого я не сказала.
– Тогда почему ушли сегодня? Ваш отец говорит, обычно вы любите наблюдать.
Священник успел побриться, от щетины не осталось и следа. Серебро теперь оставалось только в волосах – немного, но было.
Почему-то мне стало жалко этой щетины.
– Мне так захотелось, – сказала я.
– Вижу, вы делаете только то, что вам хочется.
– Не выходя за пределы того, что должна. Исповедь будет, отец Реми?
– А вы хотите? – Он откинулся на спинку скамьи, руки аккуратно держат молитвенник. – Действительно желаете покаяться за вчерашнюю вольту? Учтите, каяться, если не считаете совершенное грехом, бесполезно.
– Наш король не любит такие танцы.
– Король – не Господь.
– Господь танцует вольту?
Он хмыкнул.
– Господь прощает тем, кто искренне танцует. В конце концов, я же не заставил вас обнажиться перед достопочтенной публикой.
Слова показались мне дерзкими и странно знакомыми, потом я вспомнила: это же я их вчера произнесла. А он запомнил. В его серенькой, насквозь промоленной памяти хранятся все наши неосторожные слова, и он извлекает их на свет, когда нужно.
– Вы похожи на зеркало, отец Реми.
– Так и есть. Я ничтожен, но мню себя крохотной частицей Господней, Бог же отражает нас со всеми нашими помыслами и словами. Почему бы и мне не отразить немножечко вас, чтобы вы посмотрели, как выглядите со стороны?
– Для этого у меня есть зеркало в комнате.
– Оно вам лжет.
– А вы?
Он медленно уронил молитвенник на скамью, одну руку оставил на коленях, вторую положил на спинку скамьи; я подозрительно покосилась на его пальцы, находившиеся теперь слишком близко от меня.
– Что вы имеете в виду, дочь моя?
– Только то, что вы обещали моей мачехе научить меня смирению – и солгали, вы ничему не будете меня учить. Уверена, вы знали, что вольта запрещена, и стали ее танцевать специально.
– Вы никому не доверяете, Маргарита?
– Нет, – сказала я, – никому.
– Это хорошо, – задумчиво пробормотал он. – Пожалуй, лучше, чем я думал.
Высокий ветер за окном порвал облака, и солнце брызнуло в окно-розу, заляпав нас с отцом Реми цветными отражениями. На его скулу легло пятно желтое: лицо святого. На кончиках моих ресниц дрожали зеленые капли: цветущие холмы Палестины. Откуда бы там взяться цветущим холмам?..
– Посмотрите на меня, дочь моя, – велел отец Реми.
Я удивилась.
– Я и так на вас смотрю.
– Нет. Внимательнее. Посмотрите и скажите, что вы видите.
Я уставилась в его лицо, уже достаточно хорошо знакомое, худое противоречивое лицо. Сейчас, в цветном подарке витражей, отец Реми смотрелся живее, чем обычно. Разноцветные пятна оживляют кожу, брови – я разглядела – тоже тронуты сединой, бледно-голубые глаза не отрываются от моего лица. Белки глаз все в красных ниточках полопавшихся сосудов, будто он всю ночь не спал. А губы сжаты. Я чувствовала еле уловимую связь между слегка прищуренными глазами и твердой линией губ, связь, которую не могла объяснить словами, но именно в ней крылась разгадка.
А еще я теперь знала, какая на ощупь кожа у него за ухом.
– Вы никому не доверяете, – сказала я.
Он отражал меня лучше зеркала – этот холодный взгляд, эти губы, он показывал мне меня саму, застывшую, замершую перед ним, словно растерявшийся воробей – перед кошкой. Наверное, в прошлой жизни отец Реми был шутом, гениальным мимом, глядя на которого титулованные особы начинали плакать и чувствовали, как высвобождается что-то темное у них внутри – высвобождается и уходит навсегда. А он все играет, играет молча, скупо цедя движения, роняя отмеренные взгляды, и вот его рука, находящаяся так близко, поднимается и летит к моему лицу. Медленно, медленно, словно в воде. Грубые пальцы касаются моей щеки, по коже идет сладостный ток, и я придвигаюсь ближе, словно к камину. Отец Реми не отрывает от меня взгляда. Я тону в нем, тону в самой себе, в ожившем на другом лице отражении. Нет ничего, кроме наших взглядов, слившихся в один; он – я, но я – не он, и это мучительное несоответствие заставляет меня потянуться к нему открытой ладонью, словно он может вложить в нее себя – и отдать мне, на память.
– Госпожа Мари, госпожа Мари!
Крик Норы взорвал воздух. Я отшатнулась, рука отца Реми упала плетью, нить взглядов порвалась, да так резко, что стало больно глазам. Священник поднялся, я чувствовала, что он раздосадован.
– Дочь моя Нора, вам никто не говорил, что нельзя кричать в церкви?
Слова посыпались сухо, словно шарики из разорванных четок на каменный пол, и раскатились, подпрыгивая.
– Простите, отец Реми, – Нора не выглядела впечатленной. – Там привезли свадебное платье госпожи Мари. Госпожа Мари, идемте!
– Нора! – священник возвысил голос. – Госпожа Мари пойдет куда-нибудь, только когда я отпущу ее.
Но я понимала, что разговор уже испорчен.
– Не сердитесь на мою служанку, отец Реми, – сказала я, вставая. – Она так радуется моей скорой свадьбе и так хотела, чтобы платье привезли поскорее. Идемте, посмотрим вместе с нами, я вас приглашаю.
Он скривился, но пошел.
– Я разложила его в вашей комнате на кровати, – возбужденно тараторила Нора, пока мы шли по дому, – и такое оно красивое, такое красивое, госпожа Мари! У самой королевы нет подобного платья.
– Его должны были привезти еще вчера.
– Да, но от белошвейки приехал человек и сказал, что только сегодня, и они успели. Ах, идемте же, скорее!
– Нора, я и так иду.
Отец Реми шел позади ровно и ненавязчиво, словно тень, приклеившаяся к моей спине.
Мы поднялись на второй этаж, по дороге за нами увязался Фредерик; Дидье попался по дороге и, испросив разрешения, тоже пошел. Свадьба молодой госпожи – большое событие в доме, все желали оказаться к нему причастными. Нора достала из кармана передника ключ, торжественно отперла дверь в мою спальню, и мы вошли.
Мы вошли, остановились и замерли, глядя на платье.
Потом я сделала шаг назад и все-таки уперлась спиной в отца Реми; он взял меня за плечи, и так мы стояли, глядя на мой свадебный наряд.
Платье было великолепно. Его шили три месяца, приделывали кружево, укладывали рядами мелкий жемчуг. На лифе тоненькими искорками жили бриллианты; вышивка струилась по плотной ткани, словно поземка по улице.
Прямо поперек широкой юбки, украшенной бесценными фламандскими кружевами, тянулась сделанная кровью надпись. Кривые буквы, впитавшиеся в невинную белизну.
Надпись гласила: «Fuge!»[11]
Beata stultica[12]
Конечно, в доме начался переполох. Отец выезжал с визитом, когда вернулся, то застал панику в самом разгаре. Я молча сидела посреди большой гостиной, вокруг меня суетилась Нора, которая сама пребывала чуть ли не в обмороке. Я старательно изображала глубокую печаль, вздыхала и прикрывала рукой глаза, свидетели этого хорошего спектакля проникались ко мне жалостью. Когда отец приехал, он заключил меня в объятия и уговаривал не расстраиваться. Он, дескать, найдет шутника.