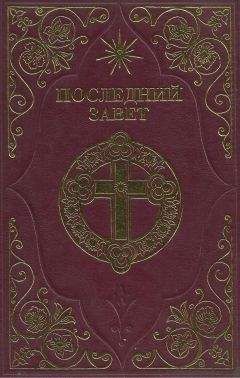– Мы уже несколько раз встречались с господином де Лямаром и знаем от него, что вы себя плохо чувствуете. Нам не хотелось откладывать дольше знакомство с вами, и мы явились на правах соседей, без всяких церемоний. Вы видите, мы приехали верхом. К тому же мы имели удовольствие видеть у себя вашу матушку и барона.
Она говорила с полной непринужденностью, просто и с достоинством. Жанна была очарована и сразу почувствовала к ней влечение. «Вот – друг», – подумала она.
Граф де Фурвиль, напротив, казался медведем, забравшимся в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стул и долго не знал, куда девать руки: он оперся ими о колени, затем о ручки кресла и, наконец, сложил пальцы, как на молитве.
Вдруг вошел Жюльен. Изумленная Жанна не узнала его. Он побрился. Он был красив, изящен и обольстителен, как в дни своего жениховства. Он пожал косматую лапу графа, словно пробудившегося при его появлении, и поцеловал руку графини, щеки которой, цвета слоновой кости, слегка порозовели, а ресницы чуть дрогнули.
Он заговорил. Он был любезен, как в былые времена. Его большие глаза – зеркало любви – снова стали нежными, а волосы, недавно такие жесткие и тусклые, приобрели прежний блеск и мягкую волнистость под влиянием щетки и душистой помады.
Когда Фурвили собрались уезжать, графиня обернулась к нему:
– Дорогой виконт, не хотите ли в четверг совершить прогулку верхом?
Затем, пока Жюльен раскланивался, бормоча: «О да, конечно, сударыня», – она взяла руку Жанны и сказала нежным, вкрадчивым голосом, ласково улыбаясь:
– Когда вы выздоровеете, мы втроем будем скакать по окрестностям. Это будет восхитительно, вы не против?
Ловким жестом она подняла шлейф своей амазонки и с легкостью птички вскочила в седло, между тем как ее муж, неуклюже раскланявшись, взобрался на свою громадную нормандскую лошадь и уселся на ней грузно, как кентавр.
Когда они исчезли, повернув за ворота, Жюльен, пребывавший в полном восхищении, воскликнул:
– Что за очаровательные люди! Вот знакомство, которое нам может быть полезно.
Жанна, также довольная, хотя и не зная почему, ответила:
– Маленькая графиня восхитительна, и я чувствую, что полюблю ее; но муж ее звероподобен. Где же ты все-таки познакомился с ними?
Весело потирая руки, Жюльен отвечал:
– Я случайно встретил их у Бризвилей. Муж кажется несколько грубоватым. Он завзятый охотник, но тем не менее настоящий аристократ.
Обед прошел почти весело, точно в дом вошло невидимое счастье.
До последних чисел июля ничего нового не случилось.
Однажды вечером, во вторник, когда семья сидела под платаном за деревянным столиком, на котором стояли графин с водкой и две рюмки, из груди Жанны вдруг вырвался крик и, страшно побледнев, она схватилась обеими руками за живот. Мгновенная острая боль пронизала ее, а затем тотчас же стихла.
Но минут через десять новая боль, менее сильная, но более продолжительная, снова охватила ее. Она едва дотащилась до дому, почти лежа на руках отца и мужа. Небольшое расстояние от платана до ее комнаты казалось ей бесконечным; терзаемая нестерпимым ощущением тяжести в животе, она стонала и поминутно просила остановиться, дать ей присесть.
Срок еще не наступил, роды ожидались только в сентябре; но из опасения каких-либо осложнений немедленно был заложен экипаж, и дядя Симон помчался за доктором.
Доктор приехал около полуночи и с первого же взгляда определил симптомы преждевременных родов.
В постели боли несколько стихли, но Жанну угнетала ужасная тоска, безнадежная слабость всего существа, что-то вроде предчувствия, вроде таинственного прикосновения смерти. Это было одно из тех мгновений, когда смерть подходит к нам так близко, что ее дыхание леденит нам сердце.
Комната была полна народу. Мамочка задыхалась, погрузившись в кресло. Барон, теряя голову, с дрожащими руками метался во все стороны, приносил вещи, советовался с доктором. Жюльен расхаживал взад и вперед с озабоченным видом, но внутренне вполне спокойный, а вдова Дантю стояла в ногах кровати с выражением лица, соответствовавшим обстоятельствам, с выражением лица бывалой женщины, которая ничему не удивляется. Будучи сиделкой, акушеркой и дежуря около умерших, принимая вступающих в этот мир, встречая их первый крик, обмывая первой водой их новую плоть, пеленая их в первое белье, она в дальнейшем с тем же самым спокойствием принимала последние слова, последний хрип, последнее содрогание уходящих из этого мира и так же совершала их последний туалет, омывая их износившееся тело водой с уксусом, окутывая его последней простыней, и оставалась непоколебимо равнодушной во всех случаях рождения и смерти.
Кухарка Людивина и тетя Лизон скромно прятались за дверью прихожей.
У больной время от времени вырывался слабый стон. В течение двух часов можно было еще думать, что ожидаемое событие совершится не скоро; но к концу дня боли возобновились с неистовой силой и вскоре сделались ужасными.
И Жанна, крики которой невольно вырывались сквозь стиснутые зубы, неотступно думала о Розали, которая совсем не страдала, почти не стонала и чей ребенок – незаконный ребенок – был рожден без боли и без мук.
В своей несчастной и измученной душе она беспрестанно сравнивала себя с Розали и проклинала бога, которого когда-то считала справедливым; она негодовала на преступное пристрастие судьбы, на преступную ложь тех, которые проповедуют справедливость и добро.
Иногда приступы боли делались до того ужасными, что всякая мысль угасала в ней. Все ее силы, вся ее жизнь, все ее сознание поглощались страданием.
В минуты успокоения она не могла оторвать глаз от Жюльена; иная боль, боль душевная, овладевала ею при воспоминании о том дне, когда ее горничная упала в ногах этой самой кровати с ребенком между ног, братом того маленького существа, которое так ужасно раздирает ее внутренности. Она совершенно явственно восстанавливала в памяти жесты, взгляды, слова мужа, когда он стоял над распростертой девушкой; и теперь она читала в нем, точно его мысли были написаны в его движениях, ту же скуку, то же равнодушие, как и к той, другой, то же безучастие эгоиста, которого раздражает отцовство.
Но вдруг ее схватила такая ужасная судорога, такая жестокая спазма, что она подумала: «Умираю; это смерть!» В бешеном порыве ее душа исполнилась возмущения, жажды проклятий, а также безграничной ненависти к этому человеку, который ее погубил, и к неизвестному ребенку, который ее убивает.
Она напрягалась и сверхчеловеческим усилием старалась выбросить из себя это бремя. Вдруг ей показалось, что живот ее быстро опадает, и ее страдания утихли.
Сиделка и врач, нагнувшись, ощупывали ее. Они подняли что-то, и скоро подавленный звук, который она однажды уже слышала, заставил ее затрепетать; затем в душу ей, в сердце, во все ее несчастное, истомленное существо проник скорбный крик, слабое мяуканье новорожденного, и она бессознательным движением попыталась протянуть руки.
В ней поднялась волна радости, порыв к новому счастью, которое только что наступило. За какую-нибудь секунду она почувствовала себя облегченной, умиротворенной, счастливой, – счастливой, как никогда! Ее сердце и тело оживали, она чувствовала себя матерью!
Она захотела увидеть ребенка. Он был без волос, без ногтей, потому что родился раньше времени; но когда она увидела, как шевелится эта личинка, как открывает рот и испускает крики, когда она прикоснулась к скорченному, гримасничающему, шевелящемуся недоноску, неудержимая радость переполнила ее и она поняла, что спасена, что защищена от безнадежности, что теперь у нее есть кого любить и более ей ничего не нужно.
С этих пор у нее была одна мысль – о ребенке. Неожиданно она стала фанатичной матерью, тем более восторженной, чем сильнее чувствовала себя разочарованной в своей любви и обманутой в своих надеждах. Она пожелала, чтобы колыбель ребенка всегда стояла рядом с ее кроватью, а когда могла встать с постели, то целыми днями просиживала перед окном около ребенка и качала его.
Она ревновала его к кормилице, и когда проголодавшееся крохотное существо тянулось к полной груди с голубоватыми жилками и хватало жадными губами темный и сморщенный сосок, она смотрела, бледная и дрожащая, на сильную и спокойную крестьянку, испытывая желание вырвать у нее сына и ударить, изорвать ногтями эту грудь, которую он жадно сосал.
Затем она захотела сама вышивать, чтобы нарядить его во всевозможные изящные и затейливые наряды. Ребенок утопал в облаках кружев и был украшен роскошными чепчиками. Ни о чем, кроме него, она не могла говорить, прерывала разговор, чтобы дать полюбоваться пеленкой, нагрудником или какой-нибудь лентой великолепной работы; не слушая, о чем говорилось вокруг нее, она восхищалась, рассматривая что-либо из белья, долго вертела во все стороны взятую вещь, чтобы лучше рассмотреть, а затем внезапно спрашивала: