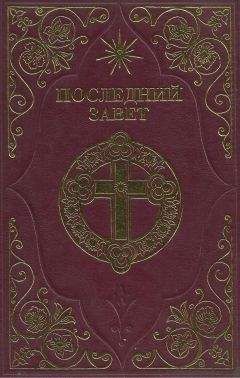– Как вы думаете, пойдет ему это?
Эта неистовая нежность вызывала улыбку у ее родителей. Между тем Жюльен, потревоженный в своих привычках, чувствуя, что его владычество в доме ослаблено с приходом этого горластого и всемогущего тирана, бессознательно ревнуя к этому кусочку человеческого мяса, который занял его место в доме, беспрестанно твердил с нетерпением и гневом:
– Как она несносна со своим мальчишкой!
Вскоре любовь захватила Жанну до такой степени, что она просиживала ночи напролет над колыбелью, глядя, как спит малютка. Но это болезненное и страстное созерцание чересчур изнуряло ее, она совсем не знала покоя, она слабела, худела, кашляла, и доктор распорядился разлучить ее с сыном.
Она сердилась, плакала, умоляла, но к ее просьбам остались глухи. Каждый вечер его стали относить к кормилице. И каждую ночь мать вставала и босиком отправлялась подслушивать у замочной скважины, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нуждается ли в чем-нибудь.
Однажды ее застал в таком положении Жюльен, поздно вернувшийся домой с обеда у Фурвилей, и с этих пор ее начали запирать на ключ в комнате, чтобы она не вставала с постели.
Крестины были в конце августа. Барон был крестным, тетя Лизон – крестной. Ребенку дали имя Пьер Симон Поль. Поль стало его обычным именем.
В первых числах сентября незаметно уехала тетя Лизон, и ее отсутствие было столь же неощутимо, как и присутствие.
Однажды после обеда пришел кюре. Он казался смущенным, словно должен был сообщить какую-то тайну; после короткого разговора на общие темы он попросил баронессу и ее мужа уделить ему несколько минут для частной беседы.
Они направились втроем медленным шагом в конец широкой аллеи, завязав оживленную беседу, между тем как Жюльен, оставшийся наедине с Жанной, удивлялся этой таинственности, тревожился и раздражался.
Он захотел проводить священника, когда тот откланялся, и они ушли вместе по направлению к церкви, где в эту минуту звонили анжелюс.
Было свежо, почти холодно, и скоро семейство собралось в гостиной. Всех начинало уже клонить ко сну, когда внезапно вбежал Жюльен, красный и негодующий.
Еще в дверях, не обращая внимания на присутствие Жанны, он крикнул тестю и теще:
– Вы совсем сумасшедшие, черт возьми! Вышвырнуть этой девке двадцать тысяч франков!
Никто не произнес ни слова, до того все были изумлены. Он продолжал прерывающимся от гнева голосом:
– Нельзя же дурить до такой степени; вы хотите оставить нас без гроша.
Тогда барон, придя в себя, попытался остановить его:
– Замолчите! Помните, что вы говорите в присутствии вашей жены.
Но тот весь трясся от раздражения.
– Плевать мне на это; да вдобавок ей и так все известно. Это кража ее добра.
Жанна, пораженная, смотрела, ничего не понимая. Она пролепетала:
– Да в чем же дело наконец?
Тогда Жюльен, обернувшись, призвал ее в свидетели, как товарища, обманутого вместе с ним в общих расчетах. И сразу выложил о заговоре, имевшем целью выдать замуж Розали и подарить ей барвильскую ферму, стоившую по крайней мере двадцать тысяч. Он повторял:
– Твои родители с ума сошли, дорогая моя, окончательно с ума сошли! Двадцать тысяч франков! Двадцать тысяч! Да они свихнулись! Двадцать тысяч незаконному ребенку!
Жанна слушала его без волнения и без гнева, сама удивляясь своему спокойствию; она была теперь вполне равнодушна ко всему, что не касалось ее ребенка.
Барон задыхался, не находя слов для ответа. Наконец он вспылил, затопал ногами и закричал:
– Думайте о том, что говорите; это, в конце концов, возмутительно! Чья вина, что нам приходится давать приданое этой девушке, ставшей матерью? Чей это ребенок? Вы хотели бы теперь его бросить?
Жюльен, удивленный гневом барона, смотрел на него во все глаза. Затем заговорил более сдержанно:
– Но и полутора тысяч было бы совершенно достаточно. Ведь они все заводят детей до замужества. Не все ли равно, от кого ребенок, это нисколько не меняет положения. Между тем если вы дарите ей ферму в двадцать тысяч, то, не говоря уже об ущербе, наносимом нам, вы тем самым кричите на весь мир о случившемся; вам следовало бы хоть немного подумать о нашем имени и нашем положении.
Он говорил строгим голосом, как человек, уверенный в своем праве и в логичности своих рассуждений. Барон, озадаченный неожиданной аргументацией, оторопело молчал, стоя перед ним. Тогда Жюльен, почувствовав свое превосходство, заключил:
– К счастью, дело еще не решено; я знаю парня, который собирается на ней жениться; это хороший малый, с ним можно сговориться. Я беру это на себя.
Он тотчас же вышел, опасаясь, видимо, продолжения споров, довольный общим молчанием и принимая его за согласие.
Едва он скрылся за дверью, барон воскликнул, весь дрожа, вне себя от изумления:
– О, это уж чересчур, это уж чересчур!
А Жанна, подняв взор на растерянное лицо отца, вдруг расхохоталась звонким смехом, как смеялась прежде, когда видела что-нибудь забавное.
Она повторяла:
– Папа, папа, а слыхал ты, как он произнес: «Двадцать тысяч франков»?
Мамочка, столь же быстро поддававшаяся веселости, как и слезам, расхохоталась своим задыхающимся смехом, от которого увлажнялись ее глаза, как только вспомнила о свирепом лице зятя, его негодующих возгласах и резком отказе выдать соблазненной им девушке деньги, которые ему не принадлежали; к тому же она была счастлива при виде веселья Жанны. Тогда и барон, словно заразившись, начал смеяться, и все трое, как бывало в добрые старые времена, хохотали до упаду.
Когда они несколько успокоились, Жанна с удивлением заметила:
– Любопытно, что все это меня совсем не волнует. Я смотрю теперь на него как на чужого. Мне не верится, что я его жена. И видите, я смеюсь над его… над его… над его бестактностью.
И, сами не зная почему, все расцеловались, растроганные и улыбающиеся.
Два дня спустя, после завтрака, когда Жюльен уехал верхом, высокий парень лет двадцати двух или двадцати пяти, одетый в новую, топорщившуюся синюю блузу, с рукавами в виде пузырей, застегнутыми у запястий, осторожно вошел в ворота с таким видом, словно выжидал этой минуты с самого утра; он прошел вдоль канавы, окружавшей ферму Кульяров, обогнул замок и неуверенными шагами приблизился к барону и дамам, сидевшим, по обыкновению, под платаном.
Завидя их, он снял фуражку и подошел, с явным смущением отвешивая поклоны.
Приблизившись настолько, что его можно было слышать, он пробормотал:
– Ваш покорный слуга, господин барон, баронесса и вся компания.
Потом, не получая ответа, он отрекомендовался:
– Это я – Дезире Лекок.
Имя ничего не разъяснило, и барон спросил:
– Что вам угодно?
Поняв, что необходимо объясниться, парень совсем смутился. Он невнятно заговорил, то опуская глаза к фуражке, которую держал в руках, то поднимая их к крыше замка:
– Господин кюре замолвил мне словечко насчет этого дела…
Тут он замолчал из боязни проболтаться и повредить своим интересам.
Барон, не понимая, спросил:
– Какого дела? Я ничего не знаю.
Парень, понижая голос, наконец отважился сказать:
– Насчет вашей служанки… Розали.
Жанна, догадавшись, встала и удалилась, держа ребенка на руках. А барон сказал: «Подойдите поближе» – и затем указал на стул, на котором сидела его дочь.
Крестьянин тотчас же сел, пробормотав:
– Премного благодарен.
Потом стал ждать, словно ему нечего было более говорить. После довольно длительного молчания он решился наконец приступить к делу и устремил глаза на голубое небо:
– И хороша же погодка по такому времени! Вот уж земля-то попользуется, для посевов!
Затем замолчал снова.
Барон потерял терпение и резко спросил:
– Так это вы женитесь на Розали?
Крестьянин оторопел: его, привыкшего к нормандскому лукавству, смутила прямота вопроса. Он ответил опасливо, хотя и более твердым тоном:
– Это смотря как; быть может, да, а быть может, и нет, смотря как.
Но барона взбесили его увертки.
– Черт побери! Да отвечайте прямо: для этого вы пришли сюда или нет? Берете вы ее или нет?
Парень в смущении упорно разглядывал собственные ноги.
– Если все обстоит так, как говорил господин кюре, я беру, а если так, как говорил мне господин Жюльен, – не беру.
– А что вам говорил господин Жюльен?
– Господин Жюльен сказал, что я получу тысячу пятьсот франков, а господин кюре говорил, что мне дадут двадцать тысяч; ну так я согласен за двадцать тысяч, но не согласен за тысячу пятьсот.
Баронессу, покоившуюся в кресле, начинала забавлять боязливая мина крестьянина. Последний искоса поглядывал на нее недовольным взглядом, не понимая ее веселости, и продолжал выжидать.
Барон, которому надоел этот торг, сразу разрешил дело:
– Я сказал господину кюре, что вы получите в пожизненное владение барвильскую ферму, которая перейдет к вашему ребенку. Она стоит двадцать тысяч франков. Я не изменю своему слову. Итак, да или нет?