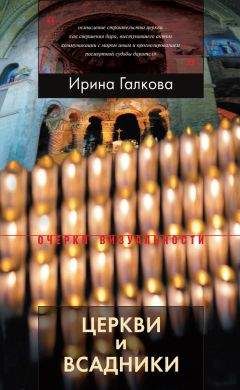Исходя из наиболее известной трактовки всадника как святого Константина, Ле Ру попытался выяснить, насколько популярно было имя Константин в кругах более или менее значительных феодалов XII в. (то есть тех, кто регулярно упоминается в монастырских хартиях в роли таких церковных донаторов). Результат анализа серии картуляриев из разных регионов Франции, а также Германии, Англии и Испании оказался весьма показательным. Имя было в обиходе, но его нельзя было назвать популярным; вообще имена греческого происхождения, распространенные в раннем Средневековье, затем стали сменяться преимущественно германскими антропонимами. В картуляриях монастырей из разных регионов Европы, а также большей части Франции оно встречается от случая к случаю либо не упоминается вовсе. На фоне этого в монастырях северной Аквитании – регионах Пуату, Ангумуа и Сентонжа – в каждом из проанализированных картуляриев персонажи по имени Константин упоминаются не менее чем по 40–50 раз: именно здесь имя пользовалось исключительной популярностью, которая должна оправдывать и региональный интерес к Константину Римскому как святому покровителю[573]. Более пристальный анализ хартий дал возможность определить целую серию Константинов, живших в XI–XII вв. и так или иначе связанных с историей церквей, содержащих в своем декоре рельеф всадника: это прево Пуатье по имени Константин (возможно, как-то связанный с историей Нотр-Дам)[574]; сеньоры Меля, Ольнэ, Сюржера и Понса X–XI вв., носившие такое имя[575]. Таким образом, заключает автор, есть все основания полагать, что изображение всадника – святого Константина – должно было отсылать именно к мирянам – покровителям церквей, местным сеньорам.
Вывод существенным образом подкрепляется сравнением рельефа с изображением на печатях местных шателенов – всадник на печатях сеньоров Партенэ практически идентичен изображению на портале церкви в Партенэ-ле-Вье[576]. Вообще сравнение всадника на фасаде церкви с изображениями на печатях знатных фамилий XII в. исключительно важно не только для определения того, кто подразумевался под изображением, но и для понимания значимости этой скульптуры. Действительно, фигура всадника, очень напоминающая очертаниями аквитанских всадников, стала одной из самых популярных форм родового знака знатных семейств, и его изображение на рыцарских печатях (особенно XIII столетия) встречается весьма часто. Самими членами рода это изображение могло соотноситься с кем-то из почитаемых предков (основателем рода или наиболее ярким его представителем), но в целом это был скорее некий собирательный визуальный образ рода вообще, ориентир для его представителей и часть своеобразного кредо, формировавшегося из семейного герба, девиза, преданий и т. д. В XII в. формирование этой аристократической культуры только началось. Тем не менее вынесение родового знака как главного изображения на фасад церкви могло значить только одно: такая церковь имела особую значимость для представителей рода, и эта значимость выходила на первый план даже перед основной функцией церкви как христианского храма.
Еще более важно в этом сравнении всадников на фасадах и на печатях – то, что парные изображения, с которыми образ всадника оказывался связан композиционно, также имеют свои аналоги в средневековых печатях. Так, у части представителей рода Аршевеков – сеньоров Партенэ – знаком, изображаемым на печати, служил не всадник, а Самсон, повергающий льва. Известны примеры такой печати, принадлежавшей в конце XII в. Гуго I Аршевеку[577]. Таким образом, композиция на фасаде церкви Сен-Пьер составлена из двух родовых знаков, принадлежавших в то время представителям одного рода – сеньорам Партенэ. Кроме того, печати знатных дам региона нередко содержат изображение, вполне сопоставимое с женской фигурой, которая в ряде случаев сопровождает всадника. Такое сходство еще в XIX в. один из местных исследователей отмечал в отношении рельефа в Шатонефе и печатей графинь Ангумуа[578].
Таким образом, можно говорить о том, что на фасадах церквей-ларцов во всех известных нам случаях центральным изображением являлся родовой знак или композиция из нескольких родовых знаков некоего знатного семейства. Версия о том, что представители именно этого семейства и являлись заказчиками означенных храмов, кажется наиболее логичной и естественной. В дополнение к ней рассмотрим, как наши всадники вписываются в типологический ряд других портретов заказчиков, присутствующих в средневековых церквах.
Портреты заказчиков в созданной по их воле церкви – явление не редкое, и такие случаи уже не раз упоминались в тексте. Теперь, думается, следует остановиться на них подробнее, чтобы понять, насколько правомерно вписывать в эту категорию аквитанских всадников. Расположенные на деталях самого здания или являющиеся неотъемлемой частью его интерьера, такие портреты были своего рода авторской подписью на произведении (и нередко их действительно сопровождала такая подпись). Часто изображения заказчиков соседствовали с портретами мастеров[579], однако здесь мы сосредоточимся только на заказчиках.
Портреты могли быть скульптурными и живописными и располагаться на стенах здания, на витражах, капителях, дверях, в композиции портала. Наиболее распространенный и узнаваемый тип таких изображений – схема, когда заказчик представлен с моделью церкви (или какой-то ее детали, к созданию которой он причастен) в руках. Нередко композиция представляет ситуацию дарения: заказчик преподносит эту модель Христу, Богоматери, ангелу или святому патрону церкви. Таковы портреты заказчика-прелата церкви Сан-Бенедетто в Маллесе, верхняя Италия (илл. 17.2); рельефный портрет мирянина Стефана, преподносящего фигурную капитель ангелу, на капители церкви Нотр-Дам дю Пор в Клермон-Ферране; портрет архиепископа Ангильберта, передающего модель алтаря святому Амброзию, на алтаре Сант-Амброджо в Милане и т. д. Однако нельзя сказать, что такая иконография была обязательной – принципиальным был скорее сам портрет как подтверждение причастности к появлению здания. В упомянутом случае Сан-Бенедетто в Маллесе заказчик-мирянин изображен рядом со священником без модели храма, но с мечом в руках (илл. 17.1). Стоит отметить, что этот случай очень наглядно иллюстрирует разницу церковной и светской инициатив, которая обсуждалась ранее.
В ряде случаев есть основания полагать, что заказчик сам желал быть изображенным в своей церкви и выступил, таким образом, инициатором не только строительства здания, но и изготовления своего портрета. В этом отношении случай Сугерия опять-таки весьма ценен: опираясь на то, что перестройка и декорирование Сен-Дени по окончании работ были им собственноручно описаны, можно с уверенностью говорить, что все портреты выполнены при его жизни. Их было по меньшей мере четыре, и их обилие и разнообразие вполне отвечают деятельному характеру аббата, не склонному оставлять свое имя и дела в безвестности. Один из них – рельефное изображение на тимпане главного фасада: портрет Сугерия расположен непосредственно под монументальной фигурой Христа, у его ног (илл. 17.3). Фигура вписана в сцену воскресения мертвых – аббат выходит из гроба одним из первых и, преклонив колена, возносит молитвы Христу. Два изображения размещены на витражах: в одном случае аббат представлен упавшим ниц перед Богоматерью в сцене Благовещения (илл. 17.4), в другом – преподносящим модель того самого витража, в который вписан его портрет (с изображением древа Иессея) (илл. 17.5); в обоих случаях портрет сопровождает надпись: SUGERIUS ABBAS. Еще один портрет представлял Сугерия коленопреклоненным у подножия большого алтарного креста, который был утрачен во время Революции[580]. Такое обилие собственных изображений свидетельствует о том, что фиксация памяти о себе для заказчика XII в. могла быть вещью не менее существенной, чем собственно реализация замысла.
Однако многие из таких портретов определенно не были прижизненными – к ним можно отнести ряд фигурных надгробий. Таковы надгробие Генриха Льва в Брауншвейгском соборе (илл. 17.7), где он представлен с моделью церкви в руке, таким было изображение графа Ги-Жоффруа Гийома над его захоронением в Монтьернеф (оригинал которого не сохранился, но упоминается в хронике этого монастыря). Захоронения заказчиков, помещенные внутрь выстроенной ими церкви, часто окружались особым вниманием, делаясь центром поминального литургического действа[581], а надгробное изображение еще раз акцентировало их созидательную роль.
Портрет знаменитого патрона или настоятеля был важен и для самой церкви. В некоторых случаях такое изображение многократно обновлялось или создавалось через много лет после смерти заказчика: таков, например, портрет Карла Великого на витраже Шартра (созданный уже в XIII в.) (илл. 17.6). Надгробие Ги-Жоффруа Гийома в Монтьернеф переделывалось много раз (существующий ныне рельеф (илл. 17.8) выполнен в 1822 г. и уже не связан с какой бы то ни было средневековой традицией). Аббаты, отстраивая монастырские церкви, нередко находили нужным изображать на них портреты своих предшественников, а не свои собственные, выказывая к ним почтение и заботясь об увековечивании не столько собственной памяти, сколько истории монастыря в целом (случай Сугерия предстает разительным контрастом таких инициатив). Так, аббат Муассака Анкетиль при перестройке клуатра в конце XI в. поместил на одном из столбов рельефный портрет Дуранда, первого клюнийского аббата монастыря, предпринявшего реконструкцию монастырской церкви (илл. 5.3); при аббате Гийоме или его последователе Жеро в середине XII в. над скульптурным порталом появился портрет их предшественника, аббата Рожера (илл. 5.4), которому, по всей видимости, Муассак обязан созданием ансамбля портала в его законченном виде[582]. Аббаты-предшественники не только запечатлены, но и возведены в ранг святых – надпись рядом с портретом Дуранда гласит: SANCTUS DURANNUS ABBAS, рядом с Рожером: BEATUS ROGERIUS ABBAS[583]. Об официальной канонизации этих аббатов ничего не известно, однако такие надписи свидетельствуют по меньшей мере о значительности этих фигур в истории монастыря и важности сохранения памяти о них[584]. Видимо, здесь есть повод говорить об опосредованной репрезентации аббата-заказчика через портрет аббата-предместника: заказывая портрет почитаемого предшественника, глава обители, с одной стороны, отдавал должное истории монастыря и выказывал добродетельную скромность в отношении собственной персоны; с другой стороны, он подчеркивал созидательную активность аббата в принципе, в разные периоды монастырской истории. Перечень аббатов в некотором смысле сопоставим с родословной, и, вступая в сан, новый глава монастыря должен был осмысливать себя продолжателем и наследником всего того, чему посвятили себя его предшественники.