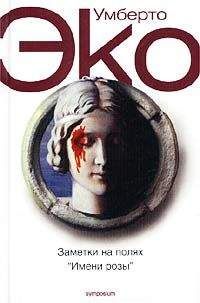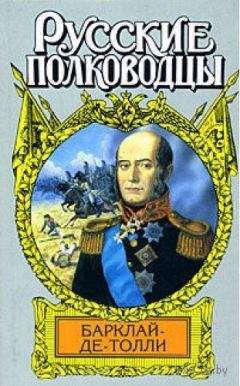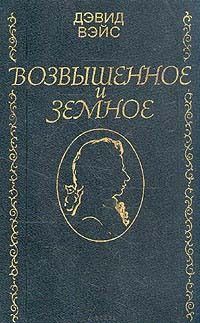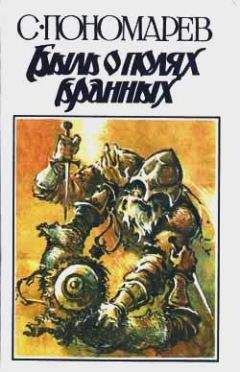— И у вас возникает вопрос: откуда этот фатализм и скоропалительный вывод о смертельности процедуры? Ощущение. Я чувствовал, что тело распадается. А подумав, могу и назвать причину: мы больше не те, кем были. Игнациус как-то транслирует подопытным организмам новый порядок или — применительно к сочетанию материи и времени — цикл существования. Как? Либо в штабе лаз, который немедленно следует перекрыть, либо он синхронизирует других со своим состоянием, ставшим для него метастабильным. Ха, ничего удивительного, что он и сам не тот, каким я его помнил. И ничего удивительного, что сеть Директората не улавливает эхоматов: она существует в этом порядке времени, а они — произведения иного. Тем же может объясняться и предшествовавшая тому слепота… М-фх. И потому же мне и Анри легче, когда мы уменьшаем дистанцию между телами: подобное тянется к подобному, избегает пустоты и сливается в более массивный объект. Но наши клетки не успевают перестраиваться. Нас не принимает урбматерия.
— В-вы сгораете, как… отторгаемые конструкты.
— Да. И вам, как и в случае с ними, придётся довершить дело. Возможно, мы ещё встретим Солнце нового дня, но уже в понедельник вам надлежит кремировать наши отравляющие урбматерию тела. Надеюсь, у Директората есть резерв в приличном учреждении, иначе лучше прямо сейчас поворачивайте и сбросьте нас обратно в пламя того двора. И хорошо, что мы на дирижабле: так причиняем меньше вреда и, вероятно, проживём дольше. А теперь оставьте нас так, чтобы мы могли насладиться последним рассветом.
«Sepultura», «sepia», «sapient»… Нет, это было ничтожное сплетение. И вряд ли Мартин когда-либо ещё вернётся к этому упражнению. Крематорий Пер-Лашез начал работу раньше обычного, и сейчас только его купол загорался в восстающих лучах солнца, в то время как колумбарий, надгробия вокруг и ниже по склону цветом ещё уподоблялись праху и костям, что лежали в них, а иной адепт века прогресса добавил бы, что это не само кладбище, а его синематическая проекция.
Перьями феникса пылала аттическая листва на куполе, венчающем город мёртвых и памяти, и в той алеющей позолоте Мартин надеялся разглядеть последние всполохи жизни Генри. Энрико. Анри. В какой из миров отведёт его психопомп? Селестина стояла рядом, но источала одно лишь сопереживание, обращённое не к погибшим, а к Мартину — то искреннее сопереживание, на каковое он, должно быть, поскупился в Бют-Шомон, если и вовсе в нём не отказал.
— Что ж, он хотя бы с достойными, — неловко прервал мистер Вайткроу минуту молчания и хитрыми, неуместными путями вспомнил, что они, похоже, так и не попадут в Камбоджийский театр на танцы Клео, четыре года назад позировавшей для скандальной скульптуры Фальгьера, захороненного здесь же этой весной.
— Оба. Но даже не представляю, в какое загробное путешествие они отправятся, — и жестом пригласила им самим уже покинуть это место, их сегодня ждали и иные дела.
— Да. И если оно воспоследует за сожжением, то наверняка будет увлекательнее того, что ожидало бы Энрико в земной жизни, пойди всё по иному пути, начавшемуся бы с развилки два года назад, когда предо мной возникла дилемма… Похоже, я тоже заражаюсь детерминизмом.
— И самобичеванием. Жаль, что он стал жертвой противостояния, о подоплёке которого не ведал до последнего момента, но упустить который ему не позволяли добропорядочное исполнение профессионального долга и чутьё. И амбиции. Настолько ли уж вы в ответе за его судьбу?
— Я не был ему сторожем, это верно. Но вы говорите про условия, в которых он действовал, уже будучи в них поставлен. Был, был определяющий момент, когда он мог бы остаться на родине.
— Но вы выбрали другое. Что его там такое ждало?
— Кому-то ещё я бы не доверился, но вы должны это узнать, чтобы могли мне довериться ответно. Вы спрашиваете, что его ждало? Лабушер его ждал. Ложка дёгтя в редком бочонке мёда викторианской морали. Пятнадцать лет назад приняли Акт, что вносил поправки к уголовному законодательству, в основном направленные на защиту молодых девушек — да что там, детей — от растления и поругания, хотя вернее будет сказать, что, как и в любом подобном законе, речь не о защите одних, — обеспечить каковую можно лишь постольку-поскольку, и каковая декларативна и невозможна в полной мере после того, как уже свершилось то, что не должно было произойти, — а о наказании других, отвращении от попыток, что, конечно, только распаляет пыл извращенцев, ибо запретный плод сладок и только увеличивает доход поставщиков услуг. В ином случае на продавца легли бы дополнительные издержки и риски, снижающие его прибыль, — на то и был расчёт, — вот только в этой нише рынка проституции и интимных услуг возможно любое повышение цен, граничащее с разумным, — простите, что применил эту категорию в столь гнусной теме, — поскольку детство суть товар и ресурс неотложного потребления и на уровне отдельной фигурки в фартучке — невозобновляемый, имеющий стабильную и богатую клиентуру, приводящий к жарким и скорым аукционам, если недурён собой. Да, с рынка уберут некоторых игроков, большую часть которых составят продавцы-дилетанты вроде решивших подзаработать опекунов, да, предложение всё равно будет опережать спрос в некоторых особенно нищих районах Империи… Но чем ближе к её хладному чугуном и медью механическому сердцу, что греют паровые котлы и коптящие небо фабричные топки, заставляя привести в движение липкую угольно-чернильную смазку-гемолимфу с красными мундирами на ролях эритроцитов, так и норовящих выбрызнуться наружу при любом повреждении, при любом ранении имперского величия и устлать брешь телами своими и вражескими, чем ближе к шестерням и зацеплениям сей машины безразличия, тем более отличным будет эффект…
— Мартин…
— Ох, конечно. Так вот к этим поправкам, которые сами по себе позитивны, пристроилась в совершенно характерной манере ещё одна — авторства Лабушера, наделяющая правом наказывать, если наказать очень хочется, но нет улик для более серьёзного обвинения, под каковым подразумевается, простите, обвинение в содомии. Любые публичные или приватные подозрительные, в поправке не перечисляемые, но недвусмысленно трактованные как «грубая непристойность», взаимодействия двух мужчин, что, полагаю, может быть как чрезмерно продолжительным и горячим рукопожатием, так и тройным православным поцелуем джентльментов, которых до того никто ранее не мог бы заподозрить в византийском вероисповедании, — да, заодно более никакого адельфопоэзиса, — или же помощь и намерение в осуществлении таковых караются двумя годами тюрьмы и, по прихоти обвинения и суда, исправительными работами, хотя не удивлюсь, если в будущем в качестве альтернативы будут предлагать более длительное заключение в психиатрической клинике с целью медикаментозного извлечения. Но дело Генри было из тех, что могло начаться с обвинения по Лабушеру, а позже чудесно обрасти свидетельствами и доказательствами и превратиться уже в следствие о содомии. Питал ли пристрастие к подобному Энрико? Да вы и сами поняли, ещё тогда утром, а то и раньше, если не в первые мгновения знакомства. Он несколько лет был вхож в уранианские круги и на близких орбитах — на правах ничтожной в своих притязаниях луны, в тёмные времена по мере сил передающей свет людям — обращался вокруг лучших их представителей, а попался на крючок, когда пошёл в какой-то притон собирать материал для статьи в тот самый день, когда туда нагрянули констебли. Не участвовал, но присутствовал — достаточно для обвинения по разделу № 11 вышеуказанного Акта. Конечно, быстро выяснилось, что он шёл по заданию газеты, — скандальненькой, но легальной, — однако за ним уже была некоторая репутация, о которой известили следователей. Кто? Противники его отца в Палате лордов, давно собиравшие способные опорочить репутацию сведения и орлами кинувшиеся терзать плоть скованного законом сына, желавшего просветить людей.
— Но были ведь и сторонники? — надеялась Селестина, что Мартин был на верной стороне и не участвовал в этом, скажем, на ролях одной из ищеек.
— И даже имели влияние на мою контору. Когда я услышал, что Генри, с которым я поддерживал корреспонденцию и иногда пересекался на приёмах и в обществах, под стражей, я предупредил руководство, что, если мне дозволят, то хотел бы выступить свидетелем защиты. Но мне предложили иную роль, более дипломатичную. Вот тогда и приключилась та развилка: или честно сказать своё слово на процессе и надеяться, что Генри не упекут в Рединг и не предъявят новые обвинения, из-за которых он и по сию пору гнил бы в камере, а его отца скорее всего отправили бы в политический нокаут в самый неподходящий для этого сезон, или же исходить из потребности защитить не Генри, но его отца, что сулило бы конторе расширение финансовой поддержки, и развалить обвинение, — подкупив одного, устранив другого, выкрав третье, — а Генри убедить принять пожизненное изгнание из страны, куда укажут, время от времени принимать и хранить на своих счетах деньги от неизвестного спонсора и покупать недвижимость, каковую предоставит обратившемуся к нему лицу по первому его требованию и не будет, вопреки натуре, допытываться о целях.