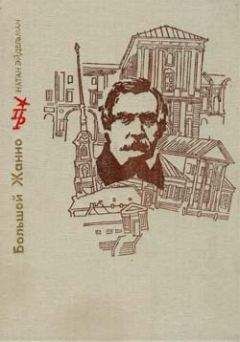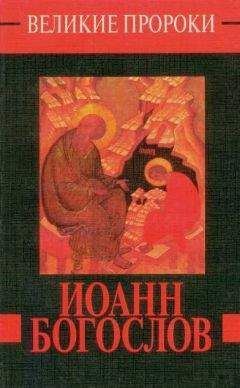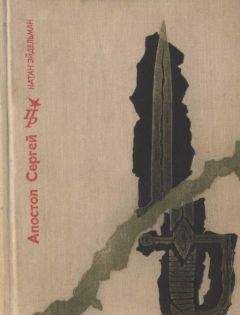Ну, а теперь оставим хворобы, раскурим трубки — и слушайте да запоминайте. Москва потянула на исповедь.
33 осени назад московский надворный судья, коллежский асессор Иван Пущин жил, по тогдашним понятиям, хорошо, а сегодня, я бы сказал, странно. Хорошим было то, что асессор был молод, смазлив, высок (из чего, признаться, постоянно возникали обстоятельства, отвлекавшие от служения отечеству). Хорошо было жить и служить по соседству с Иваном Великим (моим каменным тезкою), с Большим театром, с пожарной командой, острогом, ямой; жить в городе, где говорили все больше о ростопчинских обедах, о новой комете (опять, как в 12-м году), о свежем театральном скандале (когда зал слышал новую арию: «Мил нам цветок оранжерейный; всем наскучил полевой» — и наш журналист г-н Полевой уже имел право на сатисфакцию). Это все было хорошо, молодо (ибо, когда ты молод, все почти кругом молодо). Славно было и то, что в суде г-н Пущин чувствовал свою полезность: все же, хотя по мелочам, тут направишь, там поможешь, ибо, как говаривал мой начальник князь Дмитрий Владимирович Голицын, «в сию страну, то есть в российские суды, не ступала еще нога человеческая».
Хорошим делом представлялась мне и причастность к тайному союзу, а ведь тут уж я мог сойти за ветерана, потому что девятый год как был посвящен; и, знаете ли, чем счастливило меня, других это соучастие? Непрерывным сладостным ожиданием… Ожиданием перемен, вроде бы от тебя зависящих: ты в Москве, товарищи твои в Петербурге или Тульчине незримо держат руки на спицах огромного штурвала, и вот-вот крутнем — и раскрутим!
А как только сие вообразишь, вдруг мускулы сами напрягутся, и чуть ли не сам, один, можешь свергать; и столько силы, что просто скрывать ее нужно, чтоб сторонние люди не заметили, не удивились.
Михайло Нарышкин 100000 недоимки своим крестьянам простил, и в свете ахали — откуда подобное мужество? Но я-то хорошо понял, что это он еще в полсилы, в четверть силы высказался: не дай бог, разглядят!
Или Александр Якубович вдруг заявляется к нам в столицы, клянется убить государя на петергофском празднике, и — натурально, переполох среди наших: Никита Михайлович Муравьев от Верховной Думы едет в Москву, и все мы единодушно решаем: Якубовича удержать, потому что — дело начинает слишком рано; и Якубович торжественно дает слово продержаться еще год. Теперь я точно знаю, что никогда бы у него не хватило духу нанести последний удар, но притом он нам не врал! Просто в то лето, 1825-го, сила взыграла, не мог ее загнать, вот и баловал…
Да, Тайный союз имел неотразимое обаяние. Небось слыхали bon mot[9] великого князя Михаила Павловича: он просил не звать его на допросы Николая Бестужева из боязни в «бестужевскую веру» обратиться: Бестужев-то, царствие небесное, был мастер…
Ну ладно, дальше слушай.
Написав эту строку, вижу, что нечаянно перешел на ты, но, пожалуй, не исправлюсь. В России уж обязательно начнешь выканьем, окончишь тыканьем… К тому же ведь читать будете после моей смерти, и оттого разница в нашем возрасте начнет сокращаться, а там, бог даст, перегоните меня. В общем, на пороге вечности, полагаю, обращение на ты как-то пристойнее. И мне вольготнее; так что уж прости, простите, Евгений Иванович, и слушай дальше.
Очень помню один ноябрьский вечер, когда я гостил у милых моих Нарышкиных.
Михаил Михайлович Нарышкин в 1825 году, имея от роду 27 лет, командовал Тарутинским пехотным полком. Супруга M. М. Нарышкина Елизавета Петровна, дочь героя 1812 года генерала Коновницына. Два брата ее проходили по делу 14 декабря и были высланы, сна же сама последовала за своим мужем в Сибирь. Е. Я.
В тот вечер вместе с Мишель-Мишелем (ах, что за славный молодой полковник) толковали о моем отпуске, о том, кого навестить в Петербурге, и еще вертели отличнейшую карту мира: у Нарышкиных они ведь даже в отхожем месте поразвешены для того, чтобы просвещенье никогда и нигде не оставляло человека без своего попеченья. На той карте прокладывали мы маршрут капитана Франклина, ибо газеты только что известили, что он прислал весточку с Виннипега и дальше идет. Хорошо слышу тогдашний мой спор с Елизаветой Петровной: она утверждала, будто полярные путешествия — одно фанфаронство; что полюс людям совсем не нужен, а северо-западный проход невероятно забит льдом и мужчинам следовало бы найти более полезный способ рисковать собою. Я в тот вечер возражал Нарышкиной, шутил, даже горячился: кричал, что полезность — критериум туманный; что подвиг Магеллана можно считать совершенно нецелесообразным, ибо ведь, в отличие от Колумба, за которым через Атлантику последовали вскоре десятки, сотни кораблей, плавание вокруг света оказалось для того века задачей слишком тяжелой, не по плечу, так сказать, преждевременной.
Только через 80 лет (да и то с большого страху, спасаясь от испанской погони) английский пират Фрэнсис Дрэйк повторил Магелланов подвиг.
До конца XVI-го еще один раз обогнули землю, в XVII-м — раз пять, а всего за четверть тысячелетия до наших дней, дай бог, 15–20 экспедиций сумели вернуться домой «с другой стороны». Только теперь мореходство достигло такой степени, когда кругосветное путешествие становится нормальным. Однако следует ли отсюда, что Магеллану надлежало дома сидеть, а не рисковать без пользы?
Елизавета Петровна мне на это возразила, что ей и Магеллана жаль, а человечество вполне могло бы обождать лет 200, пока паруса и навигация улучшатся настолько, что не потребуется из 265 моряков терять в дороге 247 — и в их числе самого Магеллана (все Елизавета Петровна помнила и помнит — с ней надо ухо востро!).
Вот так сидели и толковали, причем Мишель скорее был на моей стороне, доказывал жене, что, избегая действий безумных, люди таким образом отнюдь не экономили силы для разумных; что без Магеллана и Дрэйка, возможно, и сегодня едва плавали бы у берегов…
Отчетливо вижу и теперь, 33 года спустя, ту карту, над которой спорили, и недавно писал Нарышкину, не сохранилась ли? А он мне в ответ, что, может, выслать сегодняшнюю, именно в том же масштабе и раскраске: «Это, друг Иван, в нашей с тобою истории и географии треть века — огромный срок; но не для карты мира — там за это время мало что переменилось: ну, Сахалин стал островом, да в Испанской Америке образовались Эквадор, Сальвадор, Никарагуа, Гондурас, Коста-Рика. Но истоки Нила, но оба полюса, но северо-западный проход — все это как было, так и осталось неприступным!
Жаль только, что Франклин пропал…»
Разговор у карты я отлично помню потому, что это был последний мирный разговор: прибежал какой-то офицерик, М. М. ушел с ним в соседнюю комнату, а вернулся — лица на нем не было. Оказалось, только что промчался фельдъегерь из Таганрога, остановился перепрячь лошадей, но все же шепнул знакомцу: государь Александр скончался 19 ноября.
Дальнейшее — в тумане; события следующих нескольких суток помню приблизительно, очень возможно, что меняю их местами, но вот странная черта — лучше всего память сохранила несколько мелочей, например, что 1 и 3 декабря не состоялись из-за траура театральные представления (а были у меня насчет тех спектаклей некоторые особливые планы, да все те же, отвлекающие от служения отечеству); и точно помню, что 1-го должны были давать Шаховского «Ломоносов или рекрут-стихотворец», а 3-го — в первый раз на моем веку возобновлялся «Гамлет». Шуму из-за этого «Гамлета» было, между прочим, немало, так как прежде Екатерина II строго запрещала пиесу, где неверная жена пользовалась гибелью мужа; Павел, говорят, видел в Гамлете себя, а в матушке своей — Гертруду и Клавдия в одном лице; наконец, Александру «Гамлет» напоминал об отцеубийстве, о тени Павла и прочих болезненных материях. В общем, пропали мои театральные места… и Франклин пропал…
Пойдем далее.
В первые часы и дни после получения потаенного известия я как будто увидал, почуял нечто совершенно новое, прежде не являвшееся и в мыслях, но на обдумывание времени уж не нашел; зато в Сибири, когда времени было предостаточно, не раз возвращался я к тем самым дням, и теперь вот что хочу излить на бумагу.
Тайна, кругом потаенные шепотки, тайные сборища…
Генерал-губернатор Голицын узнает о смерти императора в те же часы, что и мы, хотя даже ему не полагалось знать прежде Петербурга.
И тем более, что не может никому объявить. В Екатеринин день прикидывается больным и посылает адъютанта с поздравлениями нескольким главным московским Катеринам. Однако балы запретить не может до объявления официального траура, и я прихожу на один раут: вижу, что полицмейстер знает, и вице-губернатор знает — лица у обоих длинные, — и всеведущий Александр Яковлевич Булгаков, конечно, уж пронюхал. Но все эти почтенные лица, как я позже удостоверился, за редчайшими исключениями, таились друг от друга, а от всех таился преосвященный Филарет, знавший главную тайну, что в Успенском соборе (как и в петербургских присутственных местах) хранится с 1823 года конверт, запечатанный Александром: российский престол наследует Николай мимо Константина…