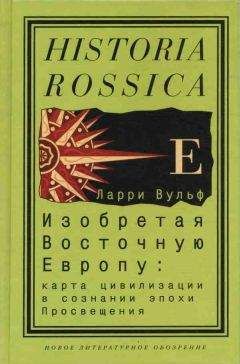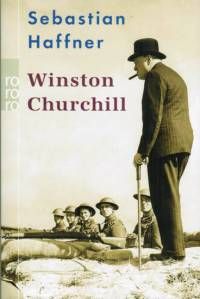Словарь доктора Джонсона с гордостью настаивал на почти уже ставшем архаичным определении «цивилизации» как чисто юридического термина, обозначающего превращение уголовного судебного процесса в гражданский. Тем не менее в 1770-е годы и во Франции, и в Англии другие словари — такие как иезуитский «Словарь Трево» (Париж, 1771) или «Новый и полный словарь английского языка» (Лондон, 1775) — уже признавали новое значение этого слова. Первый заметный случай употребления этого термина связывают с именем старшего Мирабо и его кружком физиократов, которые также активно интересовались Восточной Европой. Начиная с пользовавшегося большим успехом «Amis des hommes» (1756), Мирабо использовал это слово и в экономическом, и в культурном контексте, понимая цивилизацию и как увеличение богатства, и как исправление нравов. Он, однако, был очень чувствителен к проблеме «ложной цивилизации», особенно в связи с реформаторскими устремлениями Петра Великого в России. Другой физиократ, аббат Бадё, лично посетивший Польшу и Россию, писал о стадиях и степенях цивилизованности, особенно о «развитии» цивилизации в России; он добавил к новой концепции важный элемент, оговорившись, что речь идет о «европейской цивилизации». Французская революция, особенно в понимании французских философов, еще больше увязала концепцию цивилизации с идеей «развития». Вольней представлял себе развитие цивилизации как «подражание» самой передовой нации, а Кондорсе задавался вопросом, смогут ли когда-либо все народы дотянуться до «уровня цивилизации, достигнутого самыми просвещенными, самыми свободными, самыми свободными от предрассудков народами, такими как французы и англо-американцы». В самом начале XIX столетия Огюст Конт все еще следовал «философической географии» эпохи Просвещения, используя концепцию «цивилизации» для измерения однородности «Западной Европы»[27].
Восточная Европа вовсе не была антиподом цивилизации, не находилась в самой бездне варварства, но скорее помещалась на шкале сравнительной развитости, которая измеряла дистанцию между варварством и цивилизацией. В конце XVIII века Сегюр описывал Санкт-Петербург как беспорядочное смешение «века варварства и века цивилизации, десятого и восемнадцатого столетий, азиатских и европейских манер, грубых скифов и утонченных европейцев»[28]. Восточная Европа по самой сути своей находилась в промежутке между двумя крайностями, и к XIX веку эти бинарные оппозиции обрели силу незыблемых формул. В своей «Человеческой комедии» Бальзак мимоходом подытожил все восточноевропейское, как оно виделось из Парижа: «Жители Украины, России, придунайских равнин, короче говоря, все славянские народы представляют собой связующее звено между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством»[29].
Впервые идея написать эту книгу пришла ко мне десять лет назад, когда я целый год проработал в Секретном архиве Ватикана, собирая материалы для исследования польско-ватиканских отношений в XVIII веке. Я читал донесения, которые апостолические нунции направляли из Варшавы в Рим. В 1782 году, проведя в Варшаве семь лет, нунций Джованни Аркетти готовился к деликатной и чрезвычайно ответственной миссии в Санкт-Петербург, ко двору Екатерины II. Среди многих прочих забот он в этот важный момент своей дипломатической карьеры был обеспокоен тем, что по прибытии в Санкт-Петербург ему предстояло поцеловать руку Екатерине. Он опасался, что в Риме этого не одобрят, поскольку подобный поцелуй мог поставить под сомнение абсолютную независимость римской католической церкви. Есть некоторая ирония в том, что Рим заботился о подобных мелочах придворного этикета, когда, по сути, дело уже шло к Великой французской революции. Забавно и столь повышенное внимание к необходимости поцеловать руку царице, чьи сексуальные излишества стали легендарными уже при ее жизни. Самым интересным для меня было то, как именно Аркетти объяснял в донесении в Рим, почему он все-таки поцелует царице руку: благодаря пребыванию в Польше, он научился лучше понимать «эти северные страны». В этой фразе он связывал воедино Россию и Польшу. По его мнению, существовала пропасть между «более развитыми народами» и «народами, развивающимися позднее». Последние, то есть «эти северные народы», отличались повышенным вниманием к этикету, например к целованию рук, пытаясь сравняться «с более утонченными народами»[30]. Великолепная снисходительность, которую проявляет здесь Аркетти, показывает, как мало шансов на успех имела эта попытка с его точки зрения. При этом предложенной им шкале относительной развитости — всем этим «более» или «менее», «раньше» или «позднее» — свойственны искушенность и современность представлений об отсталости и развитии. Здесь не хватало лишь слова «цивилизация» — и смены географического вектора, которая превратила бы северные страны в страны восточные. Будучи итальянцем, Аркетти все еще смотрел на мир с точки зрения эпохи Ренессанса. Екатерина была также способна на снисходительность; она подарила Аркетти меховую шубу и позднее описывала его как «славное дитя».
Аркетти уверял, что менее развитые народы поднимали больше шума вокруг придворных манер, однако сам уцепился за эту деталь этикета и раздул ее значение до того, что в своем сознании сконструировал на ее основе карту Европы. Норберт Элиас предположил, что концепция «цивилизации» выросла из концепции «цивильности», чтобы обозначить точку наивысшего развития хороших манер. Понятие цивилизации было столь важно в представлениях о себе тех, кто уверен в собственной цивилизованности, что наиболее полное современное выражение оно нашло в стандартах, навязываемых другим классам или другим народам. Именно читая Аркетти, объединившего северные страны как менее развитые и менее утонченные, я начал размышлять над распределением цивилизованности по карте Европы в сознании той эпохи. Я задумался о том, что его снисходительность почти (но не полностью) предвещала снисходительное отношение к Восточной Европе в наши дни, и задавался вопросом, не стоял ли он на пороге великой смены географических координат на европейском континенте. Я стал задумываться о том, почему люди стали разделять Европу на две половины, на восток и запад.
Об Аркетти и руке Екатерины я вспомнил несколько лет назад, находясь по ту сторону «железного занавеса», в Восточной Европе. Посреди ночи я отправился к едва знакомому мне человеку, чтобы забрать у него какие-то письма и бумаги, которые я согласился переправить в своем багаже за «железный занавес». Когда я уходил, он трижды поцеловал меня то в одну, то в другую щеку — по-славянски, как он сказал. Я не мог не вспомнить об Аркетти и не задуматься о том, как детали этикета иногда овладевают нашим воображением и кажутся символами каких-то огромных различий. Подобные детали в конце концов переплелись в моем воображении с общими впечатлениями от Восточной Европы с ее подпольной политической жизнью, приглушенными разговорами и чувством тревоги при пересечении границ.
В 1989 году эта Восточная Европа прекратила свое существование вместе с «железным занавесом». Мы или найдем новые образы, символизирующие наши различия, или вновь вспомним о старых образах, которые родились еще до «холодной войны». Может быть, невероятная революция 1989 года станет для нас и поводом, и стимулом пересмотреть «ментальную картографию», карту Европы, отпечатанную в нашем сознании. В 1990 году Американская академия наук и искусств отметила эти события специальным выпуском журнала «Daedalus», вышедшим под заглавием «Восточная Европа… Центральная Европа… Европа»; это название, по-видимому, подразумевало пробуксовку всей нашей знаковой системы по мере того, как Европа семиотически сдвигалась и перестраивала себя в нашем сознании. Открывающая сборник статья Тимоти Гартона Эша, английского писателя, который в судьбоносные 1980-е стал самым проницательным западноевропейским исследователем Восточной Европы, была отмечена вопросительным знаком: «Mitteleuropa?», отсылая читателей к другому эссе того же автора, вышедшему еще до революции 1989 года под заголовком «Существует ли Центральная Европа?». Этот вопрос был деликатной и щекотливой проблемой ментальной картографии, поскольку сам термин «Mitteleuropa» впервые появился на сцене в 1915 году, во время Первой мировой войны, когда Фридрих Науман опубликовал в Берлине книгу под таким же заглавием, только без вопросительного знака. «Mitteleuropa» Наумана очерчивала область, предназначенную стать ареной немецкой экономической и культурной гегемонии, включая и те страны, которые традиционно относили к Восточной Европе. Эта концепция, вместе с концепциями Osteuropa и Ostraum, вновь сыграла важную идеологическую роль во время Второй мировой войны, когда Гитлер пытался претворить в жизнь программу обширных завоеваний и ужасного порабощения в Восточной Европе, начавшуюся оккупацией Чехословакии и Польши в 1939-м и достигшую наивысшей точки с началом вторжения в Югославию и СССР в 1941 году. Есть доля иронии в том, что интеллектуалы, и в Западной Европе, и в Польше, Чехословакии, Венгрии, в 1980-х годах заново открывали концепцию Центральной Европы, выступавшую теперь как идеологическое противоядие «железному занавесу». Вопрос о том, существовала ли Центральная Европа до этого, вращался потому вокруг различия между интеллектуальной конструкцией и геополитической реальностью, и Центральная Европа оставалась лишь понятием: «Ее еще нет. Вот Восточная Европа есть — это часть Европы, которую Советский Союз контролирует с помощью военной силы»[31]. Тем не менее Восточная Европа тоже начиналась как просто идеологическая концепция, и теперь, после 1989 года, когда советское военное присутствие ушло в прошлое, она вновь оказалась лишь концепцией. Концепция эта, тесно вплетенная в историю двух последних столетий, до сих пор оказывает столь сильное влияние на политические события, что мы почти не узнаем ее интеллектуальные корни, прячущиеся в дымке истории.