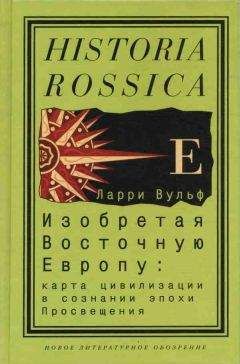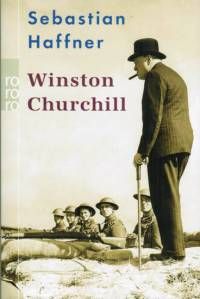У Ледъярда был наготове специальный термин для подобных свободно изобретаемых географических ощущений — он называл их «философической географией». В этом названии проявлялось то упрямство, с которым век Просвещения подчинял географию своим философским конструкциям, населяя атласы идеологическими деталями, неподсудными стандартам научной картографии. У Сегюра было название для того пространства, которое он обнаружил, когда вроде бы, покинув Европу, он понял, что по-прежнему остается в ней; в конце концов он описал свое местопребывание как l’orient de l’Europe, «восток Европы» — название, с многозначительной легкостью допускающее существование также «европейского Востока». Вплоть до самого начала Первой мировой войны французские географы колебались между двумя, казалось бы, внешне идентичными терминами, l’Europe orientale (Восточная Европа) и l’Orient européen (европейский Восток)[12]. В своей работе под названием «Ориентализм» Эдвард Саид утверждает, что «Восток», так называемый «Ориент», как культурно-географическая единица был сконструирован Западом как его «противоположность в образе, идее, личности, переживании», символ чуждости, а сам «ориентализм» — это «стиль, с помощью которого Запад подавлял, перекраивал и подчинял себе Восток»[13]. Возникновение концепции Восточной Европы неразрывно связано с развитием «ориентализма», поскольку, с одной стороны, «философская география» с небрежностью исключала Восточную Европу из Европы в полном смысле этого слова, исподволь объединяя ее с Азией, а с другой — научная картография сопротивлялась этим произвольным построениям. Но даже картография предоставляла достаточно места для неопределенности. В восемнадцатом веке существовали различные точки зрения на местонахождение границы между Европой и Азией: иногда ее проводили вдоль Дона, иногда — вдоль Волги, а иногда, как и сегодня, вдоль Урала.
Такая неопределенность помогала воображать Восточную Европу как некий парадокс, одновременно Европу и не-Европу. Подобно тому как Запад описывал себя через противопоставление с Востоком, так и Западная Европа описывала себя через контраст с Восточной Европой, которая в то же время служила мостом между Европой и Востоком. Изобретение самой концепции Восточной Европы похоже на «недо-ориентализацию», изобретение концепции «Востока», только в более мягкой форме. Этот процесс мог развиваться и в обратном направлении. Мартин Берналь, автор «Черной Афины», обратил наше внимание на то, как, преследуя вполне определенные цели, интеллектуальная традиция эллинизма вытеснила из нашего сознания все следы африканских и азиатских влияний в древнегреческой культуре. Тот же эллинизм помог Греции избежать включения в Восточную Европу, и в XX веке Черчилль открыто радовался тому, что тень «железного занавеса» не накрыла ее «бессмертной славы». Развивавшиеся параллельно интеллектуальные традиции «ориентализма» и эллинизма уходят своими корнями в XVIII век и оказываются тем фоном, на котором возникла сама концепция Восточной Европы. Интересно, что представление о Европе как едином целом оказалось в центре культурного сознания именно в тот период, когда сам континент в представлении современников был разделен на две части. Итальянский историк Федерико Чабод, отстаивая после Второй мировой войны идею европейского единства, доказывал, что именно в эпоху Просвещения образ Европы обрел стройную форму и смысл, независимый от христианской религии. По мнению Чабода, важную роль в этом процессе сыграл Монтескье, противопоставивший в своих «Персидских письмах» Европу и Восток, а в «Духе законов» — европейскую приверженность свободе и азиатский деспотизм[14]. Тем не менее противопоставления оставляли место для некоей промежуточной культурной зоны, в которую как раз и поместили Восточную Европу.
Философская география была игрой с очень вольными правилами — настолько вольными, что считалось вполне допустимым «открывать» Восточную Европу, ни разу в ней не побывав. Некоторые отправлялись в этот вояж, исполненные невероятных ожиданий и окруженные международной шумихой. В 1766 году мадам Жоффрен покинула философские салоны Парижа, чтобы посетить короля Польши, а в 1773 году Дидро отправился в Санкт-Петербург, чтобы засвидетельствовать свое почтение Екатерине Великой. Тем не менее никто не писал о России с большим энтузиазмом и авторитетом, чем Вольтер, никогда не бывавший восточнее Берлина, и никто не отстаивал свободу Польши с большей энергией и красноречием, чем Руссо, никогда не бывавший восточнее Швейцарии. Для Моцарта граница между Западной Европой и Европой Восточной оказалась волнующе близкой, где-то между Веной и Прагой. На самом деле, Прага располагается севернее и немного западнее Вены, но для Моцарта, как и для нас в XX веке, поездка в Прагу была поездкой в Восточную Европу, в славянскую Богемию. Он отметил пересечение границы вполне в своем стиле, присвоив себе, своей семье и своим друзьям нарочито бессмысленные псевдовосточные имена: «Я теперь Пункититити. Моя жена теперь Шабла Пумфа. Хофер теперь Розка Пумпа. Штадлер теперь Нотщибикитщиби»[15]. Поездка в Восточную Европу оказалась игриво-опереточной комедией, и театральный занавес был натянут между Веной и Прагой еще задолго до того, как он опустился там же, но уже отлитый в железо.
Игрив ли или философичен интерес к Восточной Европе, основан он на экстравагантных фантазиях или добросовестной эрудиции, он, как и «ориентализм», был стилем интеллектуального обладания, а его конечным продуктом был сплав знания и власти, ситуация интеллектуального превосходства, воспроизводившая отношения господства и подчинения. Как и в случае с «ориентализмом», здесь невозможно провести четкую грань между интеллектуальным «открытием» и превосходством, с одной стороны, и вполне реальным завоеванием — с другой. Французские знатоки Восточной Европы в конце концов оказались на службе у Наполеона, и «открытие» этого региона сознанием эпохи Просвещения подготовило дорогу его армиям. Создание Наполеоном Великого Герцогства Варшавского в 1807 году, оккупация Иллирии на Адриатике в 1809-м, и, наконец, вторжение в Россию в 1812 году продемонстрировали, что философская география прокладывает дорогу военным картографам. Поход Наполеона был не последней попыткой Западной Европы подчинить себе Европу Восточную.
Описывая экономическую историю «Происхождения европейской мир-экономики», Иммануэль Валлерстайн относит к шестнадцатому веку возникновение капиталистического «ядра» Западной Европы, под все возрастающую экономическую гегемонию которого попадает восточноевропейская «периферия» (а также испанские владения в Америке), превращая первоначально минимальные экономические различия во «взаимодополняющие расхождения»[16]. Когда Европа Восточная стала «периферией» Западной Европы, ее экономическая роль свелась к экспорту зерна, которое производили подневольные работники в рамках установившейся постсредневековой «второй редакции крепостного права». Однако выводы Валлерстайна основываются почти исключительно на примере Польши, чья экономика действительно сильно зависела от балтийского экспорта зерна из Гданьска в Амстердам. Он открыто признает, что в XVI веке не все страны сегодняшней Восточной Европы входили в состав европейской мир-экономики даже в качестве «периферии»: «Россия вне Европы, но Польша в ее составе. Венгрия — в ней, но Оттоманская империя — нет»[17]. В известной степени, называя Восточную Европу периферией, мы принимаем за данность некое сконструированное в XVIII веке культурное целое и проецируем его назад, строя на его основе экономическую модель. В действительности Европа Западная и сконструировала Восточную Европу как некий дополнительно-вспомогательный регион; процесс этот не был полностью предопределен социальными и экономическими факторами.
Историческая проблема ядра и периферии, к которой Валлерстайн привлек внимание исследователей в 1970-х годах, задала направление дальнейшему изучению Восточной Европы, и в 1985 году в Белладжио состоялась международная научная конференция «Происхождение отсталости в Восточной Европе». Эрик Хобсбаум сравнивал Швейцарию и Албанию, внешне похожие своим ландшафтом и скудностью природных ресурсов, но различающиеся своими экономическими судьбами. Роберт Бреннер доказывал, что «проблема отсталости в Восточной Европе — это вопрос неудачно сформулированный», поскольку «с исторической точки зрения не-развитие — скорее правило, чем исключение», а потому ученым следует говорить о проблеме уникального капиталистического развития Западной Европы. Конференция признала, что «Восточная Европа никоим образом не является целостным образованием», что различные ее части стали «экономическими придатками» Западной Европы на разных исторических этапах и были «отсталыми каждая по-своему»[18]. Проблемы отсталости и развития в Восточной Европе были впервые подняты и сформулированы в XVIII веке вне связи с экономикой; сегодня они продолжают направлять наше восприятие этих стран. Именно неопределенность положения Восточной Европы, которая географически находилась в Европе, но не была вполне европейской, вызвала появление таких концепций, как отсталость и развитие, призванных сформулировать взаимоотношения между полюсами цивилизации и варварства. На самом деле, в XVIII веке Восточная Европа послужила Европе Западной прототипом для самой первой модели «неразвитости»; сегодня мы применяем концепцию «неразвитости» к самым разным странам земного шара.