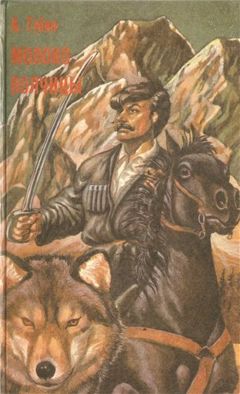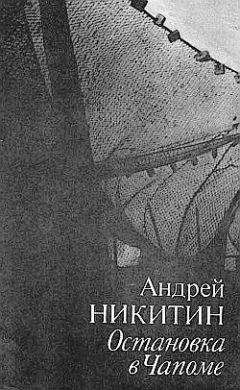Автомобили в тридцатые годы были редкостью и у государства. Но Золотареву пошли навстречу.
Пришлось и на шофера тратиться, зарплату ему положить, да повыше казенной, ибо сам товарищ Золотарев хорошо владел только стременами да поводьями. Траты же надо возмещать, и по возможности с прибылью — это и без политэкономии каждому дураку ясно: прибыль еще никому не мешала, и не в горшке-макитре ее копить, и не в чулке, а вписывать в малую серенькую книжицу, сберегательная называется, и полеживает себе прибыль эта в государственном банке да пенится понемногу.
Сколь коварен нещадный бог Амур, разящий насмерть! А и он уступает более владычливому божеству, с виду не грозному, работящему, богу собственности, частной, или, как ее стали называть, л и ч н о й — лишней, шутил Михей Васильевич, разгадавший того бога давно. Сидеть сложа руки Иван Митрофанович не привык. Давно нудился в Подмосковье, мудровал там на грядках да собак свору вырастил. Это же лучшее упоение жизни: труд на земле, в травах, цветах, ручьях, пчелах, и какое же это великое счастье строить дом. И руки Ивана дорвались до настоящего дела. С зари до зари гнет горб на своем подворье — в затрапезных штанах, ч и р и к а х на босу ногу, и уже молодому шоферу Виталию новая нагрузка: Тамару Эрастовну в театр сопровождать, охранять от разных летчиков. Самому не до того — то фрукты прелой много набралось и надо обратить ее в винцо, то пчела приперла немалый взяток на пасеке, присоседившейся у колхозной люцерны. Набегала тучка на чело хозяина: кому это все достанется? Сыновья не ответили на его письма. Новые наследники пока не завязывались. Жизнь дается только раз, а надо бы дважды, а кому и трижды. И тогда руки опускались — отгремит полковой оркестр на похоронах Ивана, и приведет Тамара сюда нового хахаля, или стансовет захапает его добро…
Автомобиль все больше использовали как грузовичок. Виталий в хозяйстве вроде приказчика. Он и приказал, посоветовал переделать слегка машину. Сиденье оставили только спереди, а заднюю часть хитроумный мужик кузнец Сапрыкин растянул и углубил как кузов. Вид, понятно, утерялся, зато входит в кузов до тонны полезного груза.
А станичный Робеспьер не дремлет, помня возглас из революционной книжки: «Ты спишь, Робеспьер!» Коршуном кружит над новоявленным Глебом Есауловым в красном обличье — не Демуленом, не Дантоном. И действует не по душе, а по закону. Навел у юристов справку: нет такого гражданского права в республике — держать единоличнику грузовой автомобиль, каким бы легковым он ни выглядел с виду. Да и другое не нравится председателю стансовета. Золотарев, например, на заседании Совета не является. Сперва это было понятно: большой человек, он имя свое как знак, как символ отдал стансовету, славой своей осенил станицу. Теперь же, когда Золотарев из орла превратился в домашнего петуха, Михей поставил вопрос ребром: не ходящих на заседания вывести из членов стансовета к чертовой матери. Не вышло это у Михея — руками и ногами замахали на него в партийном комитете: и думать не моги трогать такую фигуру!
Ладно. Выбрился предстансовета, начистил коня и сапоги и влетел во двор командира, в гости наконец пожаловал — ведь обмывать новый дом не явился, игнорируя тогда личное приглашение Ивана, напечатанное с вензелями в типографии. Золотарев рад гостю — пора им опять сдружиться, кавалерам одного знамени. Сели в чистой горнице с генеральским ковром во всю стену. Потягивают цимлянское — кровь донских атаманов, раньше только князья пили такое. Прислуживает за столом Петровна, мать убитых в гражданскую войну красногвардейцев. С того и повел Михей:
— Чего ты тут окусываешься, Петровна? Или мы без рук, сами не нальем, не положим? Или дела тебе дома нету, а нету — в бригаду иди, там с дорогой душой встретят!
— Мне, Васильевич, и тут хорошо, слава тебе, господи, сыта, трешница в день идет, Тамара Эрастовна платья старые отдала, а в бригаде палочки пишут.
— Какие платья? — изобразил негодование Михей.
— Обнакновенные. Одна с палбархата, другая крепдешиновая, утюгом чуток прижаренные, а так еще крепкие. И за стирку идет отдельно.
— Сама хозяйка не стирает, что ли?
— Чего ты привязался к ней, Есаулов? За этим прискакал? Ты ведь неспроста по гостям ходишь, все вынюхиваешь, выискиваешь, все враги тебе мерещатся — с большого перепугу, что ли? Не мылься — бриться не будешь: все по закону — как инвалид имею прислугу.
— Четверо у тебя работников. А жена с лица не слиняла бы обслужить мужа.
— А это забыл: белые на меня вдесятером наваливались. Ой, не советую я тебе, Михей, дружбу нашу старинную рушить, ой, не советую, большой урон нанесешь ты мне: крылья я тебе пообломаю и дюже горевать по тебе буду, ты мне сынов родных дороже — наливай-ка полней!
— А ты, Иван, думаешь лёгочко мне ломать то, что навеки спеклось в нашей с тобой крови? Она ведь у нас не сама по себе красная, а от знамени цвет перешел. Помнишь, как тогда с Кировым Сергей Мироновичем — ой, вы злые астраханские пески!
— Помню. Ты только не забывай.
— Извини, что язык мой длинный сбрехнул про стирку не к часу. Извини. Язык мой несуразный, от старого никак не отвыкнет. Вот сказал про Сергей Мироновича и чуть не ляпнул вдобавок: ц а р с т в о н е б е с н о е! Привычка дурацкая. Ты же знаешь, в какого бога я верю — в Советскую власть. Я же и от тебя ведь взыскания большие имел за чрезвычайные меры против попов и религии.
— Помню твою дурость, ты и тогда уже робеспьерил, три церкви сжег, за что и получил двадцать пять плетей перед полком, как и при старом строе секли тебя, сукина сына! — улыбнулся Золотарев. — Душа у тебя золотая, чистая, только меры не знаешь. Знаешь, как бы я тебя определил в жизни? Недавно нам лекцию в Москве читали, комсоставу. Будто немцы, дошлый народ, придумали собак послать на танки, под пузом у собаки мина привязана — и только пшик от того танка! Вот такую тебе роль надо бы.
— И дело сделал — и нет меня.
— Да почти так. А то ты всех перекусаешь в мирное время.
— В мирном я еще не жил. Так вот, Иван, одну уступку ты мне сделай, ради нашего знамени, а я тебе по гроб жизни собакой, псом сторожевым буду, на коленях буду стоять, а, Иван?
— Чего тебе?
— Сдай ты его от греха, разговоры идут по станице нехорошие, вот, мол, за что боролись большевики, еще я подлиннее моего есть языки, и к тому же вражьи они; чуешь?
— Кого сдать? — вроде не понимает Иван.
— Автомобиль.
Натужно рассмеялся Иван — Михей и сам умел так смеяться, по коже мороз дерет от такого смеха:
— Все еще не выветрился в тебе бланкизм-анархизм, уравниловка. Небось, мечтаешь новую породу людей вывести — по росту чтоб всех выровнять, и глаза чтоб у всех одинаковые, как у вас в коммуне при начале на всех одна фамилия была — Пролетарские! Пролетариат отомрет, а ты его насилком в истории оставляешь через фамилию, горе-марксист!
— Ты коммуну не трогай, то Дениса Коршака святое дело!
— Ну раз святое, помянем Дениса, хоть и он и прихрамывал, и спотыкался: царство небесное!
Михей помедлил, потом выпил. Золотарев продолжал:
— Ты вот из председательского котелка хлебаешь и на параде стоить не с рядовыми, а меня под общую гребенку причесать хочешь. За что? Неужто я других грешнее?
— Уравнять я тебя не в силах, улица-то называется твоим именем, Золотаревской, где возрастал ты за Курочкиной горкой. И портрет твой висит у нас в стансовете в ряду первых большевиков станицы, с Наума и Дениса ряд начинается, а чуть повыше — Владимир Ильич. Помрешь — колхоз твоим именем назовем, памятник на Субботней площади поставим — главную площадь Денис занял, да и площадь переименуем.
— Ты чего меня в могилу пихаешь?
— Иван Митрофанович, ты что, да я от чистого сердца! Или не знал ты, что и помирать будем? Но прежде — ну не хочешь сдавать за так, продай автомобиль, колхоз Яшки Уланова купит, у них казна толстая, богатый колхоз, на особой подкормке от краевого начальства. А лучше, чище все-таки сдай. А обеднеешь, не будет у тебя чем пообедать — обратишься к нам, в стансовет, кусок для тебя всегда найдется. Сдай.
— Куды? — нарочито коверкает слово Золотарев.
— Нам, в стансовет, Советской власти, а мы его определим дальше, как ты меня определил в собаки с миной — я готов, покажите только танк капитала, мимо не проскочу. Я, Иван, мечту холю и нежу: чтобы дети в школе и мотор учили, вот бы им радость, и оборонному делу большой плюс. А, Иван?
Молчит старик. Обида на лице, вроде и слезу вытер. А Робеспьер знай машет, никакого удержу нет:
— И другое скажу. Помнишь старый рассказ-притчу «Пятачок погубил»? начал с пятака, потом рубль украл, потом больше и кончил тюрьмой.
— Это какой же я пятачок украл?
— В тебе, Иван, поселился предатель, как червяк в груше.
— Не боишься?
— Нет. Слушай. Ты вот какой пятачок разрешил себе украсть: семью. Ага, семью. Семья — малая родина у человека. Ты ее предал. А кто малое предаст, у того и на большое руки зачешутся, как у мальчика, что начинал с пятачка.