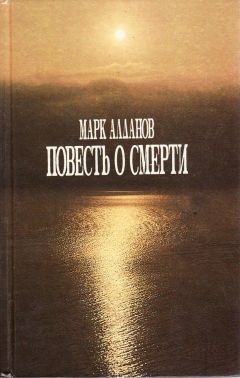XIII
После смерти кронпринца Рудольфа и Марии Вечера на столе в спальной были найдены прощальные письма. Насколько мне известно, факсимиле всех этих писем напечатаны не были. Что до их текста, то я встречал его в разных редакциях, частью между собой более или менее согласных, частью расходящихся довольно сильно. Где находятся письма теперь, трудно сказать. Не поручусь даже, что с точностью установлено их число. Было ли, например, написано Рудольфом прощальное письмо к императрице Елизавете? Указания на это есть, и они более чем правдоподобны: Рудольф мог обвинять в своей катастрофе отца, но никак не мать, которую он всегда нежно любил.
Не подлежит сомнению, что кронпринц отправил письмо делового содержания советнику Шогиеньи. Это письмо касалось завещания, и его текст никаких споров вызывать не может. Но вот, например, появилось в печати письмо Рудольфа к герцогу Браганцскому: «Дорогой друг, я не мог поступить иначе. Будь счастлив. Servus. Твой Рудольф». Венское приветствие «Servus», имеющее характер жаргонно-веселый (нечто вроде советского «пока», хоть и с несколько иным оттенком), могло бы свидетельствовать либо о весело-циничном настроении эрцгерцога в его последние минуты (по подобию кирилловского «жантильом-семинарист рюсс»), либо о душевном помрачении, либо о том и другом одновременно — именно как у Кириллова. Вдобавок, у Рудольфа не было никаких оснований писать герцогу Браганцскому, с которым он не был особенно дружен.
Гораздо достовернее текст предсмертных писем Марии Вечера. Однако ее письмо к матери дошло до нас в двух вариантах. Первый вариант: «Дорогая мама, прости мне то, что я делаю. Я не могу противиться любви. Хочу быть с ним похороненной на Алландском кладбище{12}. Я счастливее в смерти, чем в жизни». Второй вариант: «Дорогая мама, я умираю с Рудольфом. Мы слишком любим друг друга. Прости нас и живи счастливо. Твоя несчастная Мария. Как чудесно свистел сегодня Братфиш!» Последние слова второго варианта тоже как будто указывают на душевное расстройство. Сестре она писала: «Мы с восторгом уходим в тот таинственный мир. Думай иногда обо мне. Будь счастлива, выходи замуж не иначе как по любви. Я этого не могла сделать, а так как бороться с любовью я не могла, то ухожу с ним. Мария. — Не плачь, я счастлива. Помнишь линию жизни на моей руке? Еще раз прощай. Каждый год, 13 января, приноси цветы на мою могилу».
В существовании же писем сомневаться невозможно. Письмо Рудольфа к Шогиеньи есть факт совершенно бесспорный. Следовательно, версия убийства отпадает во всех вариантах: политическое убийство, убийство из мести, убийство из ревности, убийство, совершенное Марией Вечера. Дата, указанная в письме Мэри к сестре, — та самая, которая обозначена на портсигаре, подаренном ею Рудольфу. Говорили, что императрица Елизавета 13 января, если бывала в это время года в Вене, всегда отправля лась с цветами на забытую могилу в Гейлигенкрейце. Может быть, это и легенда. Но не подлежит сомнению, что у императрицы, хорошо знавшей все о мейерлингской трагедии, не было ни малейшего злобного чувства к несчастной любовнице Рудольфа.
То же можно сказать, хоть с несколько меньшей уверенностью, об императоре. О Рудольфе же Франц Иосиф почти никогда не говорил. По словам фельдмаршала Маргутти, состоявшего при императоре в последние годы его жизни, имя бывшего наследника престола в Бурге никогда не произносилось. Однако в годовщину смерти сына Франц Иосиф неизменно посещал его могилу: в конце жизни он бывал в капуцинской усыпальнице Габсбургов три раза в год: 24 декабря (день рождения императрицы), 10 сентября (день ее смерти), 30 января (день мейерлингской драмы).
«Он пошел на дела, повлекшие за собой его гибель, и мы никогда не будем знать, каковы эти дела были», — говорит о Рудольфе недавний историк Франца Иосифа Отто Эрнст, работавший по архивным материалам Бурга. Очевидно, Эрнст имеет в виду какие-то политические действия кронпринца и смерть его связывает с ними. Повторяю, для таких предположений сколько-нибудь веских оснований нет. Рудольф, по всей вероятности, погиб потому, что ему все надоело, что жизнь ему опротивела, что у него развивалась острая неврастения, что, как всегда при неврастении, каждая неприятность казалась ему несчастьем, а каждое несчастье — совершенной катастрофой. Печально сложившийся роман, поставивший кронпринца в очень тяжелое положение, был последним ударом.
Он часто повторял слова Наполеона: «Надо желать жить и уметь умирать». Воли к жизни ему было природой отпущено недостаточно, или же она быстро исчерпалась в потомке Габсбургов. «Убийство, Самоубийство, Безумие, Преступление бродят, как фурии Эллады, у ворот эллинского дворца», — говорил Морис Баррес, немного, как водится, сгущая краски и ставя большие буквы для красоты фразы. Школьный моралист мог бы, конечно, из драмы Рудольфа сделать ценные выводы об относительности земного счастья: чего, в самом деле, еще было нужно этому баловню судьбы? Ему же его жизнь казалась сложившейся неудачно, — еще недостаточно удачно! — «Ты права, мой друг, что счастье — серьезная вещь. — Оно требует бронзовых сердец и не скоро ложится на них. — Удовольствие осыпает его цветами, но может его вспугнуть. — А его улыбка ближе к слезам, чем к смеху...» И еще много не очень новых мыслей в том же роде можно было бы высказать в связи со странной жизнью кронпринца Рудольфа.
В свои последние годы кронпринц, по-видимому, намечал план переустройства Австрии: из двуединой монархии она должна была стать триединой; к коронам Карла Великого и св. Стефана он предполагал присоединить еще чешскую корону св. Вацлава. Автономию в разных видах должны были, по мысли наследника престола, получить и другие народности Габсбургской империи: Рудольф видел в Австро-Венгрии школу мирного сожительства народов, — пожалуй, некоторое подобие Лиги Наций. Преобразованное государство по внешней политике должно было образовать блок с Францией, Англией и, быть может, с Россией. Весьма вероятно, что кронпринц рассчитывал объединить вокруг своего престола всю Германию, — это несомненно сказывается в его ненависти к Берлину. В своих письмах к редактору «Нойес винер тагеблат» Шепсу он неожиданно говорит, что во всех отношениях предпочитает Берлину Париж и Германии — Францию. Не скрывает и того, что в случае войны его симпатии были бы на стороне французов. Коалицию он, несомненно, обдумывал антигерманскую; но значит ли это, что коалиция предназначалась для войны за гегемонию Вены в немецких землях или для войны «превентивной» в целях защиты от «ничем не вызванного нападения», — не знаю. Этого часто не знает никто: почти все войны — «превентивны».
Подробно обсуждать вопрос теперь не стоит. Повторю лишь слова, приведенные в начале настоящей статьи: если бы власть в Берлине и Вене перешла к скончавшимся почти одновременно императору Фридриху III и кронпринцу Рудольфу, судьбы Европы могли бы сложиться иначе. Политическое дарование Рудольфа расценивалось высоко людьми, хорошо его знавшими. «Он мог спорить с Гладстоном!» — говорил почти с ужасом принц Уэльский: будущему королю Эдуарду VII «спор с Гладстоном», очевидно, представлялся пределом политической компетентности.
Он же отмечал в австрийском престолонаследнике черту, которую забавно называл «аль-рашидизмом»: умение завоевывать симпатии подданных по способам Гарун аль-Рашида. Эта способность была в высшей степени свойственна и самому Эдуарду VII. Но им обоим применять ее было неизмеримо легче, чем знаменитому халифу. Гарун аль-Рашид перед смертью казнил и того самого Джафара, с которым совершал свои легендарные ночные прогулки по Багдаду. Кронпринцу Рудольфу никого казнить не надо было; его в Австрии обожали от рождения просто потому, что он был «Руди». В этом отношении задача его была легка: не надо было лишь растрачивать огромный запас популярности, отпущенный ему судьбой.
В политике он был прямой противоположностью своему отцу. Франц Иосиф, по иронически-благодушному замечанию Бернрейтера, в своей государственной деятельности «руководился принципом выжатого лимона» («die Politik der ausgepreßten Zitrone»): он упорно и цепко держался за все старое, за все, что можно было сохранить, пока можно было сохранить; держался за власть, за учреждения, за обычаи, за людей. Рудольф, напротив, явно любил новое, просто «как таковое»: «Чтобы все было не так, как раньше».
Тем не менее люди, знавшие обоих, находили у них и общие черты. Один австрийский князь, с гордостью называвший себя «самым реакционным человеком Европы и обеих Америк», как-то сказал: «Рудольф, конечно, либерал, демократ и еще Бог знает что, но я знаю: он будет нашим последним грансеньором. Предпоследний — его отец». Если не ошибаюсь, этот князь с чисто генеалогическим мировоззрением еще где-то доживает свои дни. Думаю, что, например, зрелище мюнхенского совещания, на котором судьбы мира решили четыре государственных человека: бывший маляр, сын кузнеца, сын булочника и внук сапожника, — ему большого удовольствия не доставило. Может быть, он вспоминал свое предсказание. Я же о нем вспомнил потому, что кое в чем князь был прав: кронпринц Рудольф был одним из последних представителей разряда людей, характерного для Европы девятнадцатого столетия. В России к этому разряду принадлежал в начале своего царствования император Александр I.