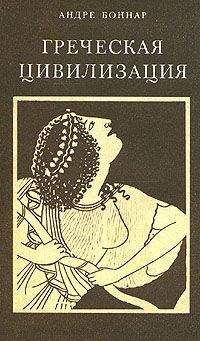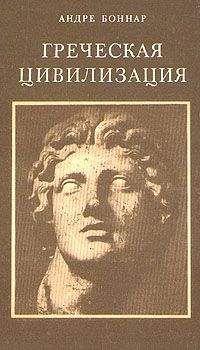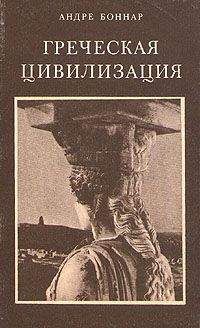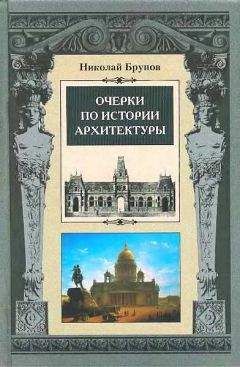О, как ты счастлив, смертный,
Если в мире с богами
Таинства их познаешь ты,
Если, на высях ликуя,
Вакха восторгов чистых
Душу исполнишь робкую…
. . . .
О, как мне любо в полянах.
Когда я в неистовом беге,
От легкой дружины отставши,
В истоме на землю паду,
Священной небридой [14] одета.
Стремясь ко фригийским горам,
Я хищника жаждала снеди:
За свежей козлиной кровью
Гонялась по склонам холма.
Но чу! Прозвучало: «О Вакх, эвое!»
Млеком струится земля, и вином, и нектаром пчелиным,
Смол благовонных дымом курится.
Прянет тогда Дионис…
И вот уже носится вихрем:
Он нежные кудри
По ветру распустит.
Вот факел горящий в горах замелькал
На тирсе священном.
И с вакхической песнью слились
Призывные клики.
(Еврипид. Драмы, т. I, M., 1916, «Вакханки», перевод И. Ф. Анненского, с. 222–224)
Не одни вакханки слышат зов Вакха. Вот приходят два старца — прорицатель Тиресий и Кадм, основатель Фив. С тех пор как дыхание бога веет над городом, сердца обоих стариков бьются быстрее. Они взяли священный жезл, они идут в горы славить бога. Их старые ноги совершат и это чудо: они будут танцевать в честь бога… Сцена трогает нас простотой веры двух старцев; кроме того, она возвещает о могуществе бога, способного сделать то, что старость уже не будет более старостью. Но, однако, мы еще не завоеваны. Немного обольщены. Неспокойны. Наш мир рассудочной мудрости начинает колебаться.
И вдруг — царь Пенфей. Это трагический герой пьесы. Мы знаем, что ему грозит беда! Он нас привлекает. Он нравится нам также своей прямотой, своей откровенностью, своим мужеством. Он царь, он отвечает за порядок в городе. Мы признаем разумным его желание оказать противодействие поветрию, распространившемуся в результате двусмысленных намеков лидийца. Конечно, мы знаем, что он ошибается, рассматривая неистовства нового культа как грубый разгул, облеченный в форму экстаза. Но он искренен. Однако достаточно ли искренности для того, чтобы умилостивить богов?
Зрелище двух старцев, которых он считает безумными, повергает Пенфея в сильный гнев. Его негодование, его плохо обоснованные обвинения, направленные против культа, которого он не знает, говорят о поспешности суждений, что едва ли разумно для ревнителя религии рассудочной. Когда Пенфей, предварительно повелевший бросить в темницу тех фиванских вакханок, которых удастся схватить, отдает приказ своим воинам задержать лжепророка, этого прекрасного лидийца, то есть самого бога, мы понимаем, что он губит себя. Его судьба свершается. Нужно ли восхищаться им? Следует ли сожалеть о нем?
В это время хор снова поет о блаженстве, которое снизойдет на того, кто отдастся новому богу. Дионис — податель радости. С ним нет больше страданий, с ним — веселье и наслаждение, Музы и Амуры. Горе тому, кто помимо него считает себя мудрым. Человеческая мудрость не что иное, как гордыня и безумие. Человек находит для себя успокоение только в самой бесхитростной вере. Горе мудрым и разумным. Этот ликующий хор, столь языческий в своем прославлении страсти, странным образом поет слова, созвучные евангельским. Кажется, что слышишь «Господь утаил от мудрых и разумных», а также «Блаженны нищие духом». Дивный Еврипид! Его восприимчивость к мистическому опережает века.
Стража приводит Диониса, закованного в цепи. Мы приближаемся к самому сердцу драмы. Отныне царь и бог смело будут выступать друг против друга во время решающих сцен, прерываемых по ходу действия проявлениями чудес. С каждым разом эти столкновения лицом к лицу становятся все более трагическими, несмотря на то, что течение их спора продолжает оставаться самым естественным. Эта беседа, все время прерываемая и непрестанно возобновляемая, — своего рода зубчатая передача с замедленным стопором. Поэт прерывает движение часового механизма этой беседы лишь для того, чтобы подчеркнуть — то отвлекающим небольшим музыкальным отступлением, то прекрасным пением, то поразительными чудесными явлениями, — как постепенно божество вовлекает человека в свой круг.
Пенфей не обратил большого внимания на первое чудо. В темнице цепи вакханок упали к их ногам, засовы открылись сами собой — это позволило пленницам бежать.
Он теперь внимательно относится к чужеземцу, которого к нему приводят. Какая удивительная красота! Сколь велика чарующая мягкость этого лица! Царь спрашивает; ответы юноши так же мягки, как и черты его лица. Но царь раздражается, он угрожает; лидиец отвечает со спокойствием, более грозным, чем гнев. Пенфей на минуту смущен. Душа, более восприимчивая к святости божественного, угадала бы в этом достоинстве, столь спокойном, бога. Это бессмертная сцена, в которой пророк предстает перед царем. Неудивительно, что в одной из «Страстей Христовых» византийской эпохи использованы некоторые из еврипидовских реплик. Можно сказать, что Пенфей и Дионис — это Христос перед Пилатом.
Пенфей. Потом в тюрьму тебя мы заключим.
Дионис. Раз захочу — сам бог освободит.
Пенфей. Ну, бога что-то подле не видать.
Дионис. Он здесь, но нечестив ты — и не видишь.
Пенфей. Взять дерзкого, — он оскорбил царя!
Дионис. Оставьте! Зрячий — говорю слепцам.
Пенфей. Вяжите же! Я царь, а он в плену.
Дионис. Ты сам не знаешь, что желает сердце.
Ты сам не знаешь, что творит рука,
Ты сам не знаешь, что ты есть и будешь.
(Там же, с. 241–242)
Таким образом, горячность Пенфея растворяется в спокойствии бога. Человек скользит, человек погружается в коварную и глубокую бездну божественной тайны. Мы уже знаем, что человек погиб. Но мы еще не знаем, заслуживает ли бог того, чтобы одержать верх.
Снова раздается пение хора… Музыка волнует, тревожит, поэзия изливается в страстных призывах. Вера требует появления плененного бога… «Приди… приди… появись…».
Она утверждает его возвращение: «Он придет…»
Вдруг бог отвечает. Чудо совершается на наших глазах. Из глубины своей темницы бог говорит своим служительницам: (О Вакх!)
Хор узнает своего владыку: («Ο господи, о господи!»). Земля колеблется, камни архитрава рассыпаются, Дионис разбил свои узы, он во дворце. Пламя вздымается: бог явился. Вакханки хора падают к ногам своего господина и поклоняются ему.
Царь присутствует при этом чуде, охваченный ужасом и негодованием. Он вновь встречается с лидийцем, который довольствуется лишь тем, что на взрыв его ярости отвечает:
Я говорил тебе… меня развяжут.
(Там же, с. 249)
Чудесные явления продолжаются. С Киферона приходит погонщик волов и с удивлением рассказывает о жизни вакханок ка лоне природы. Киферон — это та самая гора, на которой скоро свершится ужасная судьба Пенфея; там для погонщика волов открылось одно из самых волшебных зрелищ. Там рай для человека безгрешного, живущего в содружестве с миром животных. Вакханки играют со змеями. Они кормят своей грудью козлят и волчат. Природа предлагает там людям все изобилие своих даров. Там мед стекает с тирсов, источник брызжет из скалы и вино бьет из земли. Под нажимом пальцев земля, подобно женской груди, выделяет из себя молоко. Но в то же время эта ласковость природы сменяется неистовством против осквернителей, которые приходят нарушать покой Эдема. Пастух рассказывает, как он с товарищами пробовал захватить Агаву, чтобы отвести ее к ее сыну Пенфею. И тогда это сообщество холмов, животных и женщин стало защищаться. Гору охватило исступление. Весь этот рай превратился в место ожесточенного избиения нечестивцев. Дикая резня, творимая руками вакханок, знаменовала всемогущество бога — того бога, который и есть сама природа — зарождающая или губящая, когда ей вздумается, и нерушимая.
Этот рассказ не трогает Пенфея. Чудо его раздражает. Он становится все жестче в своем противодействии вере, которая оскорбляет его приверженность к порядку. У него есть войско. Он пойдет против горы, он приведет сверхъестественное к разумному.
Бог сильнее человека. Но в тот самый момент, когда Еврипид убедил нас во всемогуществе Диониса, Дионис как будто вдруг хочет отказаться от проявления своей силы и хочет показать, что он способствует спасению человека. В сцене, где судьба Пенфея колеблется, Дионис протягивает руку своему противнику: он предлагает царю отказаться от своего плана, он разговаривает с ним милостиво. Но как раз в этот единственный момент, когда божество приоткрывает дверь своего милосердия, человек, Пенфей, воспринимает его предложение как ловушку, тот самый Пенфей, который вслед за тем примет настоящую ловушку бога за дружеское предложение. Вечное недоразумение между человеком и богом. Пенфей упорствует…