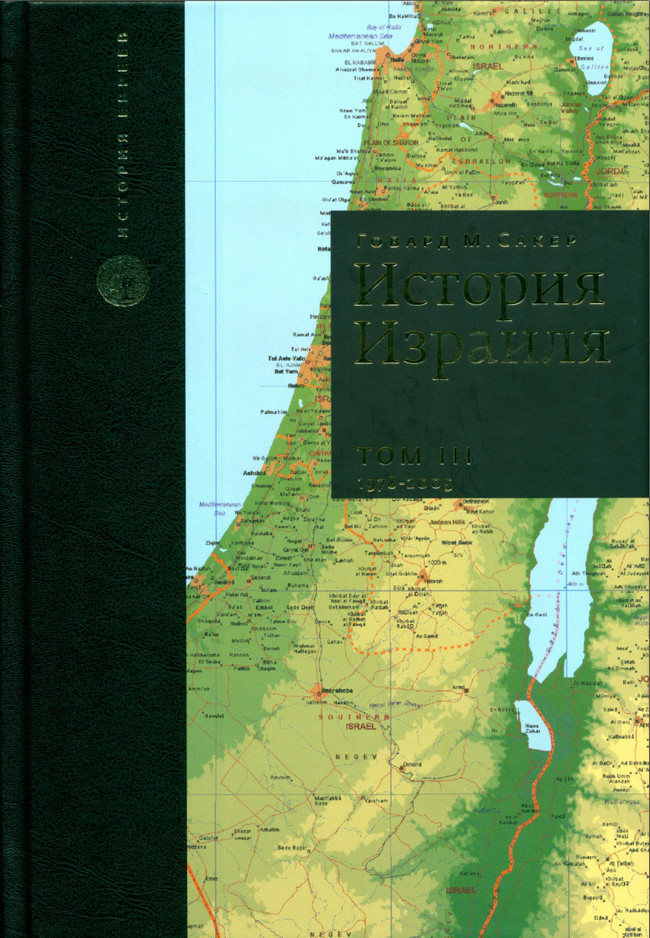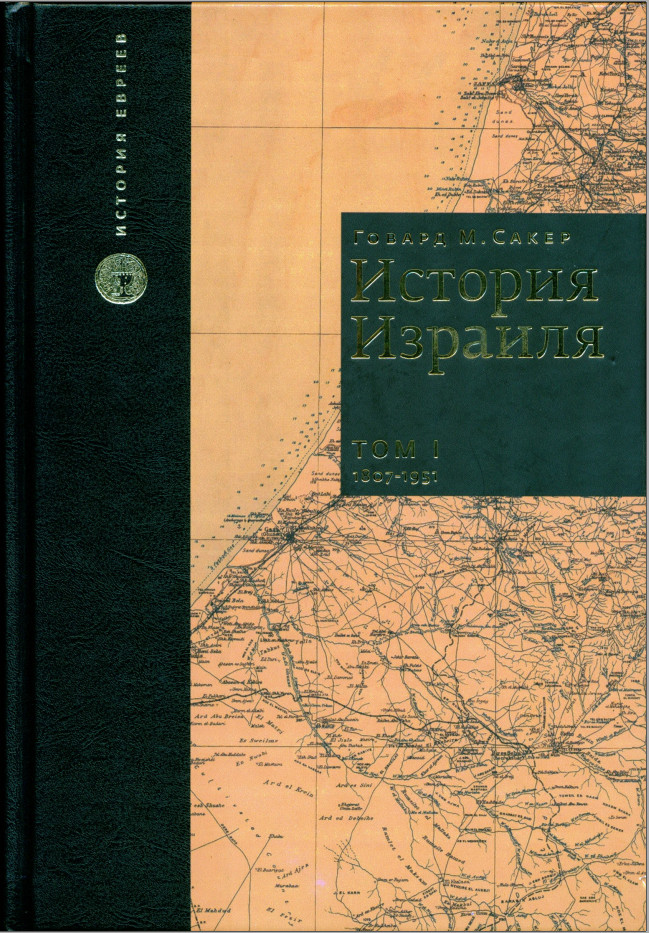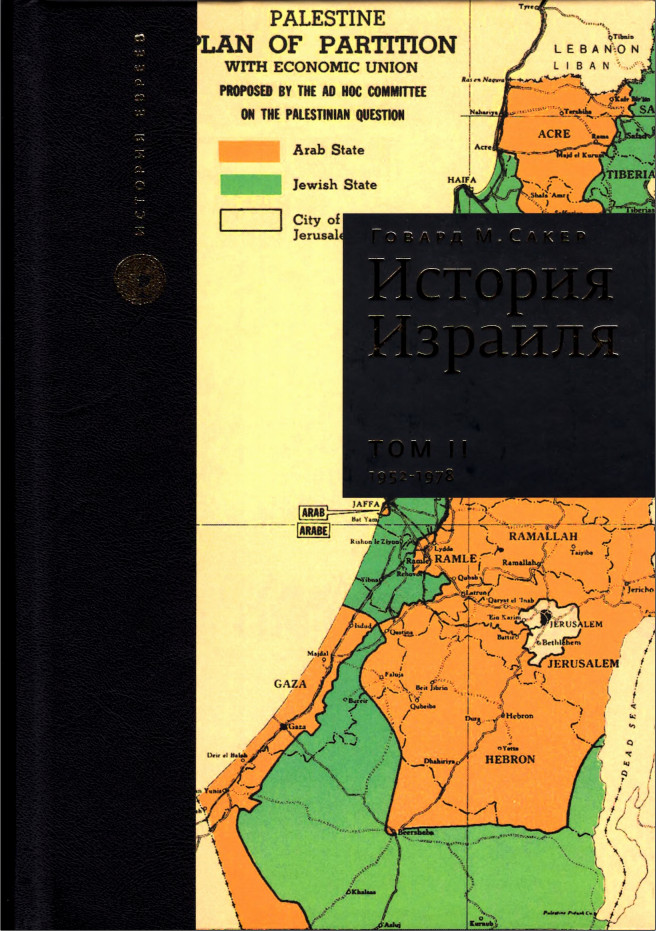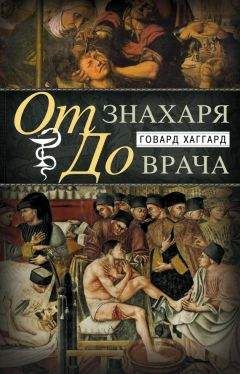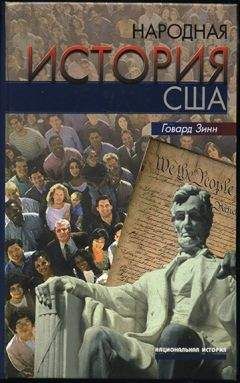что касалось принятия и практического применения законодательных актов. Однако в рамках рассматриваемой инициативы, принятие которой стало основополагающим событием, Верховный суд доказал свое право давать (согласно практике, существующей в США) юридическую оценку как принимаемым кнесетом законодательным актам, так и определяемым правительством административным процедурам. Единодушие, с которым была принята эта инициатива, свидетельствовало не столько о заблаговременной интерпретации судом своих юридических полномочий, сколько о том, что в стране назрела явно выраженная необходимость сделать более гибкой политику кнесета и правящей коалиции.
Новая и более значительная роль Верховного суда была особенно явственной, когда его судьи выполняли функции Высшего суда справедливости — в сущности, сходные с Высоким судом правосудия Великобритании. Действуя в этом качестве, Верховный суд, с конца 1980-х гг., все шире использовал свои полномочия для защиты прав человека. В первую очередь принимались давно назревшие решения относительно расширения гражданских свобод в религиозной сфере. В 1988 г. Суд отменил постановление местных раввинатов об отказе женщинам в праве членства в религиозных советах исключительно на основе их половой принадлежности. В 1994 г. Суд выступил против действий раввинских судов, обязав их, при рассмотрении имущественных споров в рамках бракоразводных процессов, придерживаться критериев и принципов, принятых светскими судами. “Законодательство общего права, регламентирующее права собственности, — говорилось в постановлении Суда, — есть составная часть общего гражданского права, и в этой связи раввинские суды обязаны действовать согласно данному законодательству”.
В 1990-х гг. Суд уделил особое внимание вопросам толкования одного из “Основных законов” — “Закона о человеческом достоинстве и свободе”. Принятый кнесетом в 1992 г., этот Закон выполнял в Израиле функции Билля о правах США. Самый текст Закона давал понять, что Суд вправе отменять принятые кнесетом законодательные акты или административные правила, если те не отвечают общепринятым нормам справедливости и добропорядочности. На пороге XXI в. Верховный суд использовал положения этого Закона для защиты прав светского большинства Израиля и арабского меньшинства страны. Так, в 2003 г. Суд постановил, что правительство обязано предоставить арабам те же права, что и евреям, при покупке жилья на земле, являющейся общественной собственностью — то есть принадлежащей государству или Еврейскому национальному фонду (Керен каемет ле-Исраэль). Возникает вопрос: распространяется ли действие “Закона о человеческом достоинстве и свободе” на территории Западного берега и сектора Газа, находящиеся под израильским контролем? Ответ на этот вопрос был отрицательным в годы правления Рабина, Переса и Барака. Однако в 2003 г. Верховный суд принял решение, требующее изменить направление строящегося забора безопасности таким образом, чтобы он не явился причиной необоснованных трудностей для гражданского населения Палестинской автономии. И правительство Шарона согласилось с этим решением и внесло соответствующие изменения в проект. И пусть эти изменения физически были незначительными — но они имели весьма существенный смысл не только с точки зрения “человеческого достоинства и свободы”, но и в плане мирного процесса.
Моральный императив видных израильских писателей в основе своей соответствовал нравственным принципам ведущих юристов и ученых страны. Вместе с тем израильские книгоиздатели по своим побудительным мотивам не многим отличались от своих западных коллег и всецело способствовали созданию в стране рынка бестселлеров — когда большинство читателей сосредоточивает свое внимание на минимальном числе названий, навязываемых им средствами массовой информации. В 1970-х и 1980-х гг. эти “западные” тенденции определяли круг произведений израильской литературы, читаемых и в самом Израиле, и, — в переводах, преимущественно на английский, французский и немецкий, — в США и европейских странах. Надо сказать, что если рядовые израильские писатели издавались за рубежом незначительными тиражами, то книги таких видных авторов, как Шмуэль-Йосеф Агнон, Амос Оз, А. Б. Йегошуа, Агарон Аппельфельд, Агарон Мегед и Давид Гроссман, пользовались все возрастающим спросом у серьезного зарубежного читателя.
Еще задолго до наступления XXI в. в израильской литературе появилась целая группа ярких женских имен: в их числе Михаль Говрин, Дорит Пелег, Йегудит Кацир, Рут Альмог и Ронит Маталон. Успеху их произведений во многом способствовало новаторское творчество Амалии Кагана-Кармон [136], опубликовавшей свой первый сборник рассказов Тахат гаг эхад (“Под одной крышей) еще в 1966 г. Кагана-Кармон принадлежала к группе “Новая волна”, члены которой пользовались модернистской техникой письма, рассматривая в своих произведениях различные аспекты израильской жизни и, в частности, социальные проблемы израильских женщин. Феминистский взгляд на действительность был свойственен и авторам более позднего поколения, писавшим в середине второй половины XX в.: Шуламит Гарэвен [137] и Йегудит Гендель.
Вне зависимости от конкретной тематики своих произведений — будь то сионизм, постсионизм или феминизм — израильские авторы пользовались творческими методами и приемами, сходными с теми, что были свойственны их зарубежным коллегам. Так, Аппельфельд и Йегошуа находились под сильным влиянием Франца Кафки, на Рут Альмог большое воздействие оказала Вирджиния Вулф, на творчество Яакова Шабтая [138] и Дана Бнай-Серы повлияли латиноамериканские авторы Габриэль Гарсия Маркес и Жоржи Амаду, а в рассказах Биньямина Тамуза [139] и Ицхака Бен-Нера [140] прослеживается “символический” реализм, близкий к методу Макса Фриша и Альбера Камю. В целом ивритская литература к XXI в. впитала многие черты американской, европейской и (уже в конце XX в. — латиноамериканской) литературы. При всем том уникальные политические и географические особенности Израиля придали ивритской литературе ее неповторимое своеобразие. В стране, где жизнь “кипит, как в скороварке” (по словам Гершона Шакеда [141], “патриарха” израильских литературных критиков), все элемен ты мировой литературы оказались “доведенными до крайности, обостренными, сжатыми — и тем самым сделались намного более явно выраженными”. (За несколько десятилетий до этого израильский поэт Натан Альтерман охарактеризовал израильскую литературу как “весь мир в капле росы”.)
Демонстрируя разнообразие тематики и утонченность форм, израильские писатели при этом год за годом руководствовались нравственным императивом, соответствующим тем этическим принципам их соотечественников-интеллектуалов, которые находили свое воплощение в зале Верховного суда или в университетских аудиториях. Шовинизм израильских политиков язвительно изобличали драматурги Ханох Левин [142] и Гилель Миттельпункт [143], которые в своих острых сатирических произведениях показывали Голду Меир как политическую интриганку, придающую непомерное значение мелочам, Менахема Бегина — как напыщенного приверженца территориальных приобретений, Шимона Переса — как политического оппортуниста, а израильских лидеров в целом — как бесчестных людей, лишенных моральных принципов. Все события современной жизни — от Войны Судного дня до интифад и зачастую беспорядочных израильских контрударов — ведущие писатели Израиля отразили в своих иеремиадах, горестных повествованиях и сетованиях.
В более ранние годы, на закате “Поколения Палмаха” и в начале существования “Новой волны”, такие писатели, как А. Б. Йегошуа и Амос Оз, уже говорили о том, насколько опасно не уделять необходимого внимания положению арабского меньшинства в стране (Гл. XX. Духовный кризис). После Шестидневной войны речь шла