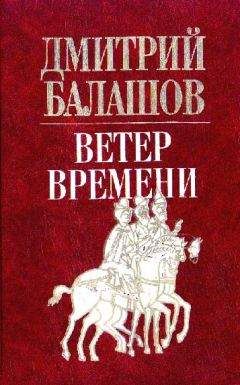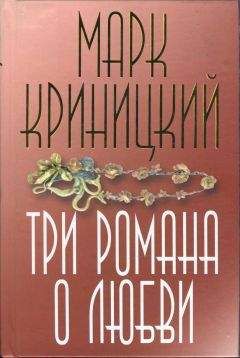Никита первым узрел небольшую калитку в стене, и пока русичи, падая один за другим, отбивались от наседающей литвы, выбил ее плечом и вывалился кубарем в снег. Саблю он сжимал мертвою хваткой.
На обрыве, оборотясь, он увидел за собою лишь одного бегущего русича, прочие погибли, отбиваясь, своею смертью открывая дорогу Никите с напарником.
Они бежали, тяжко дыша, ползли, снова вскакивали. Свистели стрелы, понизу мчались литовские всадники, и беглецы опять карабкались вверх. Яснело, что днем, на свету, от погони им было не уйти. Ратник остановился, выплюнул с хрипом кровь. «Не могу боле, ты беги!» – и пошел, качаясь, слепо уставя копье, встречу литовских стрел.
Никита вновь рванул в бег, но и у него черные круги плыли перед глазами и уже дыхания не было в груди, когда он вдруг по шею провалился в какую-то яму и, вымолвив: «Конец!», приготовился уже встретить смерть. Но ноги его не обрели твердоты, и он, вжавшись, унырнул в яму с головою, а снежный пласт, рухнувший сверху, засыпал его совсем, так что Никита сперва едва не задохся, набив снегу в нос и рот, но под ногами все было и продолжалось пустое, и он пополз по-рачьи, задом вперед, и полз, обдирая плечи, пока лаз не расширило настолько, что стало мочно перевернуться и стать на четвереньки…
Где он, что с ним, куда он попал – Никита не думал совершенно. У него одно было: скорее, скорее, скорее туда, во тьму, внутрь, где его не найдут, где могут его не найти безжалостные враги. Тем паче, убив двоих в молодечной, он мог рассчитывать теперь только лишь на самую мучительную смерть.
Сбило литовских преследователей и то, что с обрыва свалились вниз, уходя от погони, еще два русских ратника. Взявши этих двух, позабыли временем про третьего, а потом, и вспомня, напоминать боярину о своей оплошке не стали, понадеявшись, что убеглого русского кметя поймают другие.
Пока собирали трупы, рубили головы, выкладывали мертвых в ряд под стеною храма и уже суетился над ними кто-то из братии, дабы пристойно отпеть мертвецов, Никита, заползая все далее и далее в темноту, оказался наконец в проходе, в коем стало мочно подняться в рост. Он обшарил руками покрытую изморозью стену пещеры и пошел во тьму, тыкая перед собою саблей – не свалиться бы ненароком в какую ямину. Он и теперь еще не понимал толком, куда попал, и толкало его вперед одно лишь – уйти как можно далее от возможной литовской погони.
То, что он находится в пещерах, прорытых в горе иноками лавры, он сообразил уже много спустя, когда под рукою открылась пустота в стене и, протянувши руку, он вдруг ощупал кость с приставшею к ней высохшею плотью; и, ощупывая далее, вдруг понял, что это не что иное, как человеческая нога, нога трупа, положенного здесь, по-видимому, много лет назад. Холодные мурашки поползли у него по коже, и он бы закричал от ужаса, кабы не стояла смерть за спиною, кабы не должно было молчать изо всех сил. Откачнувши к стене, он долго унимал дрожь в членах, отгоняя нелепую мысль, что он уже давно находится на том свете, среди мертвецов, лишь потом наконец сообразив, что это как раз и есть пещеры с костями древлекиевских иноков и ему теперь надобно обрести тут кого-нибудь из живых. Поэтому, когда вдалеке впереди пробрезжил ему мерцающий огонек светильника, Никита не закричал и не ринулся в бег. Застыв на месте, он ждал приближения огня и все еще не знал, что ему содеять, когда впереди показался древний монах, идущий с глиняным светильником в руке прямо к Никите.
Старец подходил все ближе и ближе и все еще не видел Никиту, вернее, не мог представить себе, что тут есть кто-то еще из живых. Когда он наконец узрел незнакомого кметя подойдя к нему почти вплоть, то едва не уронил светильник и долго смотрел молча, вопросив погодя глухим настороженным голосом:
– Кто ты?!
Рука старца, державшая светильник, приметно дрожала, в глазах трепетал ужас.
– Русич я! – отмолвил Никита. – Московит! Бежал от погони, в яму упал, заполз…
Старец продолжал разглядывать его всего с ног до головы, водя светильником. Приметил кровавую саблю в руках Никиты, истерзанный вид, исхудалость щек.
– С владыкой Алексием мы! – чтобы только не молчать, пояснил Никита.
– Иди за мной! – вымолвил старец и пошел вперед, вернее – назад, туда, откуда явился, а Никита двигался следом, теперь в колеблемом свете глиняного светильника видя ряды ниш в стенах с мощами угодников и черные отверстия ответвлений пещеры, там и сям попадавшие им по пути. Теперь уже он и сам, захоти того, не сумел бы выйти назад, к той кротовой норе, по которой заполз сюда с воли, и вырытой, верно, прежними иноками попросту для притока свежего воздуха в пещеры.
– Пожди тута! – строго бросил монах. И Никита, остоявшись на месте, остался опять в полной кромешной темноте, гадая, выдаст ли его монах литвинам или спасет.
Он постарался вытереть саблю, вложил ее в чудом уцелевшие ножны и, почуяв дрожь в ногах, уселся на холодный песок. К тому времени, когда вдали вновь замигал огонек и вернулся прежний инок, Никиту всего уже била мелкая дрожь и он с трудом поднялся с земли. Сейчас, исчерпав весь запас сил, он не мог бы уже ни бежать, ни драться.
Монах принес ему хлеб и кувшин с водою. Никита ел стоя, не чувствуя вкуса пищи, одну только смертельную усталь в теле, но все-таки доел, заставил себя доесть хлеб и выпил всю воду. Старец видел, что Никиту колотит дрожь.
– Пожди еще, чадо! – вымолвил он и снова ушел во тьму.
Никите вскоре захотелось по нужде, но он терпел, сжимая зубы и переминаясь, и дотерпел-таки до появления старца. Тот, глянув на Никиту и угадав его трудноту, бросил ему в руки монашескую зимнюю суконную манатью и повелел идти за собою. Пришли наконец в какой-то закут, и скорчившийся Никита, подняв деревянную крышку над яминою, сумел облегчить желудок, после чего старец опять оставил его в одиночестве и темноте, теперь уже очень надолго.
Никита, завернувшись в дареную сряду, приткнулся в угол и, кое-как согревшись, поджав под себя ноги, задремал и даже заснул, постанывая и всхрапывая и поминутно просыпаясь от очередного привидевшегося кошмара. То он бежал по круглому огромному шару, а его догоняли со всех сторон, то попадал в паутину гигантского задумчивого паука, который медленно притягивал его к своим огромным голубым глазам и шевелящимся зубчатым усикам, то его вели отрубать голову… Наверное, минула ночь. Старец все не приходил, и Никита, не в силах более ждать, двинулся, ощупывая стену, вдоль по проходу, не ведая сам, куда идет, пока не услышал вдали заунывного пения.
В его затуманенном мозгу, измученном непрерывною тьмой, промелькнула жестокая догадка: а ну как он уже давно умер, убит на склоне Днепра, и все это, и давешний старец тоже, ему просто снится после смерти? «Чур меня, чур!» – прошептал он и, вспомнив, что языческий оберег непристоен тут, в святых пещерах, торопливо перекрестился.
Никита пошел на пение. Ближе, ближе, вот уже показался и свет вдалеке, и наконец перед ним открылась пещера, чуть больше прохода, по которому он шел, но приготовленная для богослужения, видимо, подземная церковь. Два невеликих столба из пятнистого камня подпирали свод, открывая каменный алтарь, а перед алтарем стояли в молитвенном наклоне пять, не то шесть монахов и пели молебный канон. Один из них оборотил лицо в сторону Никиты, и он узнал давешнего знакомого инока. Тот, похоже, погрозил ему пальцем. Никита поскорее отступил в тень, но далеко уходить не стал, так и стоял, повторяя про себя слова молитв и сожидая конца службы.
Когда служба кончилась, монах, разыскав Никиту в темноте, вновь повел его за собою к прежнему месту, строго повелев более не отлучаться никуда без повеления и не показываться никому из братии.
– Отец игумен распорядил не держать тебя тута боле трех дней! – сообщил старец. Пожевал губами, подумал. – А там пойдешь на Подол. Я тебе укажу куда. Вот тебе хлеб. Вода тута, в кувшине. Прощай!
Вновь оставшись один, Никита потрогал пальцем песок над головою. Палец ощутил глубокий подземный холод. Несколько песчинок просыпались ему на лицо. Он поплотнее закутался и сел, прислонившись к песку.
Темнота раздвигала стены, казалась безмерною, всасывала в себя весь мир. То вновь сужалась, сдвигая громады пространств, свертывая их до тесного предела могилы.
Все живое тянется к свету и теплу. В самую темную ночь нету на земле полной, совершенной тьмы. Чуть светит небо, даже и заволоченное громадами туч, смутно мерцает земля, отдавая полученный ею дневной свет, что-то ползет и движется. А в зимнем, скованном морозом сумраке все равно смутно светится снег, все равно свет живет, присутствует в мире. Лишь подземный мрак есть мрак полный, где ни шевеления жизни, ни признака света нету совсем. И человек во мраке подземном начинает терять себя, от него уходит ощущение времени, даже себя самого он уже перестает ощущать!
Трудно во мраке! И ежели бы Никите предложили сейчас жить ли здесь не видя света, даже того, мерцающего, скудного света светильника, жить ли здесь или подняться к свету и там принять смерть, он бы, возможно, выбрал смерть заместо жизни, подобной смерти. Как выдерживали тут затворники, сами замуровывавшиеся в затворах, обрекая себя к тому же на вечное молчание?! Воистину святые отцы токмо и могут вынести такое!