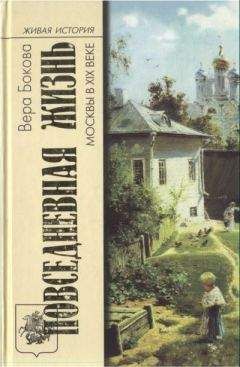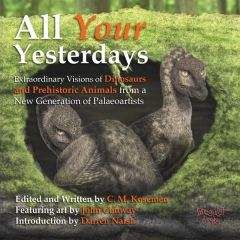В Немецкий клуб обожали заглядывать великосветские «шалуны», которые приезжали специально, чтобы устроить какую-нибудь «фарсу» и поскандалить. Приехав развеселой и уже порядочно подогретой компанией, «шалуны» намеренно начинали приглашать на танец дам побезобразнее: кривых, сутулых, необъятных толстух, сухопарых дылд и коротеньких резвушек и, кривляясь, плясали с ними кадриль, проделывая немыслимые антраша и иногда специально роняя какую-нибудь из партнерш на пол. По-немецки обстоятельные и флегматичные клубные старшины, сразу догадавшись, к чему идет дело, дожидались лишь момента, когда кривляния примут совсем уж карикатурную форму, и, остановив музыку, требовали от хулиганов удалиться. Те принимались громко возражать, после чего их брали под руки и, упирающихся, выводили, а иногда и выносили из зала. Оркестр при этом играл туш.
У Немецкого клуба имелась загородная дача в Петровском парке, в бывшем здании «воксала», которая начинала функционировать в июне. Здесь устраивали летние «сельские» балы, бывали представления фокусников и других артистов, пели цыгане.
На протяжении всего девятнадцатого века мода на клубы шла в Москве по нарастающей, так что в итоге к 1890-м годам свой клуб имели и велосипедисты, и железнодорожники, и лыжники, и служащие в кредитных учреждениях, а у дам их было даже два… Как правило, в клубах ужинали и допоздна играли, но устраивались здесь и любительские спектакли, и ученые диспуты, и литературные вечера, и концерты заезжих знаменитостей.
В числе более простонародных общегородских увлечений девятнадцатого века следует в первую очередь отметить всеобщую, всемосковскую страсть к птицам — певчим и голубям. К нынешним домашним любимцам, тиранам и кумирам, то есть собакам и кошкам, москвичи прошлого были в массе своей довольно равнодушны. Собака (порой и не одна) сидела в каждом дворе в конуре и охраняла дом — или жила на псарне, дожидаясь барской охоты. Дружили с собаками преимущественно дети (а с собачками — старые барыни). Кошки и коты были постоянной принадлежностью всякой лавки, амбара и кухни и исполняли свою работу — боролись с грызунами. Хотя и сидельцы, и кухарки обычно относились к своим кошкам с нежностью и устраивали между собой негласные соревнования на самого крупного и холеного кота, но все же особенно их не баловали и с легким сердцем оставляли на ночь в холодной лавке или неуютной кладовке. Были, конечно, среди москвичей, а особенно москвичек, собако- и кошколюбцы, подбиравшие даже на улицах хвостатых беспризорников и нежно их пестовавшие, но большинство горожан смотрели на эту блажь без сочувствия и с насмешкой. Н. А. Бычкова, служившая домашней швеей в доме купцов Евдокимовых, вспоминала о некой Ольге Ивановне, посещавшей ее хозяйку Марью Дмитриевну: «Собак, кошек у ней ужасть водилось. Всех бездомных подбирала. Вонища в квартире — я чуть не задохнулась (посылали меня раз к ней). К нам, бывало, придет, сидит за обедом и так это тихонечко, чтоб никто не видал, суп ли, жаркое ли, в ридикюльчик потихоньку прячет (так уж всегда с ридикюльчиком ходила). Своим кошкам, значит. Потешалась над ней Марья Дмитровна: „А ну-ка, — говорит, — Ольга Ивановна, открой ридикюльчик-то, покажи, что у тебя там есть“. А та красная сидит, смущенная, несвязное бормочет. Пошутит, посмеется Марья Дмитровна, и с всего-то ей велит из кухни с собой надавать»[460].
Иное дело — птицы. Птичка — тварь Божия, она и места мало занимает, и ест немного, и пачкает лишь чуть-чуть, и никакой-то от этой птички пользы, одна только красота и душевное утешение. «Птичка, то есть средственная, по карману и бедному человеку, и на содержание себе требует она сущие пустяки: горсточку корму да капелька водицы — вот и весь ее паек А уход за ней небольшой: вымел клетку, песочком посыпал, воткнул зеленую веточку, — больше ничего и не надо ей»[461]. Потому почти во всяком московском доме имелись клетки с канарейками, чижиками, щеглами, синичками, дроздами, а то и с соловьями, а знатоков и ценителей птичьего пения («охотников» по-тогдашнему) было среди горожан видимо-невидимо. Для таких знатоков имелись даже специальные трактиры, которые держал такой же птичий ценитель, и там можно было и увидеть редкие экземпляры певунов, и похвастаться собственными, и обсудить их всласть в компании единомышленников. О наиболее редких по своему пению птицах даже помещали особые извещения в газетах: «Сим извещаются господа охотники, что вывешен соловей старой поклички, которая лет 7 тому назад существовала; можно слушать оного, молодых и старых под ним птиц учить во всякое время, на Большой Тверской улице в доме купца Варгина в трактирном заведении»[462]. Если обычная синичка или чижик могли стоить в середине века копеек 10 (и еще во столько же обходилась месячная порция корма), то хорошо обученная певчая птица — канарейка или соловей — ценилась в десятки и даже сотни, до тысячи рублей и умела петь со всеми птичьими премудростями: соловьи — с дудками и трелями, с овсяночными стукотнями, дробями и свистками, а канарейки — с песнями, трелями, овсянками, россыпями, свистами, дудками, флейтовыми, червяковыми, колокольчиками и бубенчиками. К такому виртуозу любители охотно и за немалые деньги отдавали «в выучку» собственных птиц (выучка заключалась в том, что клетку с учеником вешали возле «наставника», и он постепенно перенимал более замысловатую манеру пения). Очень ценились настоящие знатоки птиц, и для того чтобы проконсультироваться с ними или услышать авторитетное мнение о своем питомце, «охотники» готовы были даже пешком месить грязь через всю Москву.
Не менее нежно Москва любила голубей. Редкий двор, особенно купеческий и мещанский, обходился без своей голубятни. Голубятники составляли особую, тоже очень многочисленную касту среди птичьих «охотников» и пользовались собственными специальными сведениями и особой терминологией.
Одним из наиболее знаменитых голубятников в начале века был граф А. Г. Орлов, имевший первоклассную голубятню и в высшей степени знакомый со специфическим восторгом, рождающимся в душе любителя при виде взмывшей в небо голубиной стаи. Выпуская своих птиц, граф специально приглашал гостей и делал это где-нибудь на лугу, в ясный солнечный день. Для пущего эффекта наливали воды в огромную серебряную миску, так что можно было любоваться не только живыми птицами, но и их отражением.
Единомышленников у сиятельного графа было множество. «Какое было наслаждение смотреть, когда пар пять „турманов“, „чистых“, „чигровых“, выпущенных из голубятни на крышу, поднимались моим приятелем при помощи тряпки, укрепленной на шесте, и на широких кругах уносились все выше и выше, почти скрываясь из виду. Надо заметить, что при подъеме голубей, а также при их спуске турмана кувыркались в воздухе… После полета садились на крышу… и смело опять входили в свое жилище и даже приводили довольно часто с собой „чужаков“, — иногда весьма редкие экземпляры, — составляющих, по охотничьим правилам, премию поймавшего»[463], — писал в своих воспоминаниях москвич 1860-х годов. Правда, истинные голубятники, если их голубь уходил к чужим, обязательно его выкупали, иногда за большие деньги.
Как и все птичники, голубятники имели собственных арбитров и свои сборные места. В середине века особенно славился среди знатоков некто Уразов, живший в переулке близ Арбата, который имел множество собственных голубей, в том числе дорогих «лобастых турманов». В доме его постоянно толклись «охотники» — и до хрипоты спорили, чей экземпляр породистее. Потом выпивали, закусывали, играли в вист и снова спорили — всё о голубях.
По воскресеньям вся многочисленная армия голубиных «охотников» собиралась кружками на Лубянском или, впоследствии, Трубном рынке и по целым дням обсуждала тонкости и премудрости своего пернатого хобби.
Помимо породистых в Москве обитало и множество простых «сизарей». Вообще птиц в Москве была уйма. Было много лошадей — и извозчичьих, и хозяйских, которые, разумеется, постоянно гадили, а этим навозом питались огромные стаи московских воробьев. Галки и вороны кормились по помойкам во дворах, а голуби «столовались» около хлебных лабазов и на железнодорожных станциях. Традиционно много голубей было на Красной площади, где их специально прикармливали все желающие. Возле храма Василия Блаженного и вдоль китайгородской стены сидели бабы-торговки с моченым горохом в корзинах и за копейку рассыпали на мостовой стакан горошка, на который тут же слетались постоянно дежурившие неподалеку голуби.
Надо сказать, что порой любовь к птицам в Москве приобретала довольно специфические формы. Весьма многочисленной категорией «охотников» были любители петушиных боев. Модой на это жестокое развлечение Москва, как говорили, тоже была обязана вездесущему графу Алексею Григорьевичу Орлову. Он якобы первым выписал из Англии породистых боевых птиц (красного пера) и с большим вниманием потом следил за их разведением в России, так что каждое снесенное курицей яйцо отдельно учитывалось и на каждого петуха заводилось досье. Соперником Орлова скоро стал богач Всеволожский, петухи которого были серого окраса, и стараниями этих двух энтузиастов уже после 1812 года бойцовая порода широко распространилась за пределы аристократической Москвы. Смешавшись с местными птицами, «англичане» дали начало новой породе — более высокой и сильной, чем первоначальная.