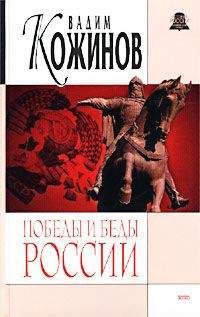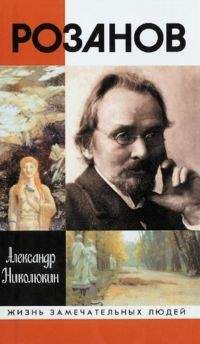Но все это выявилось позднее. В те же годы, когда Николай Рубцов непосредственно жил в Москве, близкие ему поэты, в сущности, не играли сколько-нибудь значительной роли в литературной жизни как таковой. Их вдохновляла и объединяла твердая вера в истинность избранного ими творческого пути, и они в той или иной мере удовлетворялись признанием «внутри» своего кружка.
Я вовсе не хочу сказать, что эти поэты — и в их числе Николай Рубцов — были вообще равнодушны к широкому успеху, известности, славе. Почти все они были молоды, молоды в прямом смысле слова (это нужно оговорить, ибо сплошь и рядом называют «молодыми» стихотворцев, чей возраст недалек от сорокалетия), и не могли не пленяться ореолом популярности. Но они сумели утвердить в себе убеждение, что в судьбе поэта есть ценности, которые выше и важнее этого.
Владимир Соколов писал тогда в обращенном к Анатолию Передрееву стихотворении, что ему «пришкольной не надобно славы», что он хочет просто жить, «зная дело, сжимая перо», а Передреев отвечал ему:
Да шумят тебе листья и травы,
Да хранят тебя Пушкин и Блок,
И не надо другой тебе славы,
Ты и с этой не столь одинок.
Этот стихотворный диалог несколькими годами позднее получил широкую известность и даже стал предметом острых дискуссий…
Не исключено, что читатель может усомниться — надо ли говорить о судьбе других поэтов в статье о Николае Рубцове? Но я убежден, что это необходимо. Большой поэт обычно окончательно формируется в определенной творческой среде. К тому же все, что говорится здесь о других поэтах, имеет самое прямое отношение к судьбе Николая Рубцова.
К моменту приезда в Москву он уже вкусил толику если не славы, то, во всяком случае, эстрадного успеха. Об этом свидетельствуют литераторы, знавшие поэта по его «питерским» годам (конец пятидесятых — начало шестидесятых годов), в частности Борис Тайгин, который вспоминает о выступлении Николая Рубцова в зале Ленинградского Дома писателей в январе 1962 года: «Каждый прочитанный стих непременно сопровождался шумными аплодисментами, смехом, выкриками с мест: „Во дает!“, „Читай еще, парень!“ и тому подобным. Ему долго не давали уйти со сцены…»
Но, повторяю, поэты, в круг которых Николай Рубцов вошел в Москве, ставили перед собой совсем иные цели. Они отнюдь не жаждали, чтобы их стихи вызывали ту реакцию, которая выражается в вопле «Во дает!» — им это было не только чуждо, но и отвратительно. Помню, как еще в самом начале 1961 года один из них выступал перед студентами вместе с будущим героем «эстрады» (в то время его «карьера» только начиналась), который обрушил на слушателей набор эффектных метафор и словечек, усиливая их воздействие истерической интонацией и полублатным выговором. Из зала в ответ неслось нечто вроде «Во дает!», а на лице одного из будущих друзей Николая Рубцова невольно нарастало выражение глубокого отвращения.
Но дело было, конечно, вовсе не в самом по себе отталкивании от «эстрады», а в том, что оно определялось основательной позитивной программой.
Поэтический кружок, в который в 1962 году вошел Николай Рубцов, имел, несомненно, первостепенное значение в его творческой судьбе. Речь идет, разумеется, отнюдь не о том, что он «сделал» Рубцова поэтом. Поэзия рождается из всей целостности жизни ее творца; поэтическую энергию невозможно у кого-либо занять и превратить в свою — она может быть только изначально и органически своею.
Но поэтический кружок, о котором идет речь, дал возможность Николаю Рубцову быстро и решительно выбрать свой истинный путь в поэзии и прочно утвердиться на этом пути.
За первый же год жизни Николая Рубцова в Москве в его творчестве совершился вполне очевидный перелом. В основе его прежних стихотворений были две сложно переплетающиеся эстетические стихии — своеобразная ирония и заостренный драматизм, чаще даже мелодраматизм. Я отнюдь не хочу сказать, что ранняя поэзия Рубцова лишена значительности. Но он стал подлинно народным поэтом лишь тогда, когда ирония и мелодраматизм отошли на второй план, а вперед выдвинулось нечто иное, гораздо более серьезное, уравновешенное и ответственное.
Конечно же, все это жило в самом Рубцове, но именно в кругу поэтов, о которых идет речь, он смог осознать эту нравственно-эстетическую стихию как главную и наиболее ценную в себе и сделать ее основой своего творчества.
Ясно помню, как с самого начала из стихов Николая Рубцова, написанных до приезда в Москву, его собратья по кружку решительно выделили те — кстати сказать, очень немногочисленные — стихотворения, которые, как стало ясно позднее, предвещали дальнейшее зрелое творчество поэта. Это были прежде всего «Добрый Филя» (ирония в этих стихах не поглощает целого; ныне, на фоне зрелого творчества Рубцова, она даже не очень и заметна), «Осенняя песня» («Потонула во тьме…») с ее гораздо более глубоким, чем во многих других ранних стихах, драматизмом и «Видения на холме» («Взбегу на холм и упаду в траву…») — между прочим, значительно переработанные уже в Москве (первая редакция этого стихотворения представлена в рукописном сборнике Николая Рубцова «Волны и скалы», хранящемся у Бориса Тайгина).
Поистине восторженно были встречены в кружке такие новые стихи Рубцова, как «В горнице», «Прощальная песня» («Я уеду из этой деревни…»), «Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…».
Эти стихотворения звучали почти на каждой встрече Николая Рубцова с друзьями — первые два он покоряюще напевал под гармонь или, на худой конец, гитару, третье с замечательной выразительностью декламировал (хотя это слово отдает ложной многозначительностью, трудно сказать по-другому — «читал» или «произносил» здесь не подойдет), подкрепляя мелодику голоса напряженным движением руки.
Но в глазах друзей Николай Рубцов был не только создателем прекрасных стихотворений. Довольно скоро он стал для них как бы живым воплощением первородной стихии поэзии. Станислав Куняев точно выразил это в следующих строфах, написанных в 1964 году (когда Николай Рубцов уехал на лето на Вологодчину) и опубликованных в его книге «Метель заходит в город» (1966):
Если жизнь начать сначала,
В тот же день уеду я
С Ярославского вокзала
В вологодские края.
Перееду через реку,
Через тысячу ручьев
Прямо в гости к человеку
По фамилии Рубцов…
Я скажу: мол, нет покою —
Разве что с тобой одним.
И скажу: давай с тобою
Помолчим, поговорим…
Сейчас уже нелегко представить себе, что имя «Рубцов», вошедшее в эти стихи 1964 года, несло в себе тогда определенный смысл лишь для очень узкого круга друзей. И для читателей книги Станислава Куняева это было еще только имя некоего человека, живущего где-то в «вологодских краях», — может быть, даже вымышленного…
Важно при этом иметь в виду, что для поэтического кружка, о котором идет речь, отнюдь не была характерна та атмосфера взаимных восхвалений, какая нередко царит в подобных кружках. Хорошо помню, например, как резко говорил Анатолий Передреев об одном несколько затянутом стихотворении Николая Рубцова, обвиняя автора чуть ли не в графоманском многословии. И, надо думать, может, и потому Николай Рубцов в дальнейшем не писал стихотворений такого рода.
Очень трудно или, пожалуй, даже невозможно наглядно показать творческую жизнь поэтического кружка, ибо она слагается, по видимости, из мелких и незначительных подробностей. Но тот или иной диалог, отдельное слово, даже просто молчание были подчас необычайно весомыми.
Главное заключалось в единой творческой программе участников кружка — твердой, бескомпромиссной и в то же время лишенной какого-либо догматизма и сектантства. Ими всецело владела идея русской Поэзии, притом вовсе не в эстетически замкнутом, книжном смысле, но Поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей ее глубинной сути.
Творения Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Некрасова, Фета и Полонского, Блока и Есенина были для Николая Рубцова и его собратьев не «литературными фактами», но именно глубочайшими воплощениями духовной жизни русского народа и русского человека, а значит, прообразами их собственной духовной жизни. Они никак не отделяли поэзию от жизни в ее сущностной основе и потому были свободны от какой-либо литературщины.
С другой стороны, именно это глубокое проникновение в классическую поэзию и подлинное овладение ею — освоение ее (то есть превращение ее в действительно свое достояние) — и делало Николая Рубцова и его собратьев настоящими людьми культуры, а не поверхностными ее потребителями, способными лишь щеголять «информированностью».