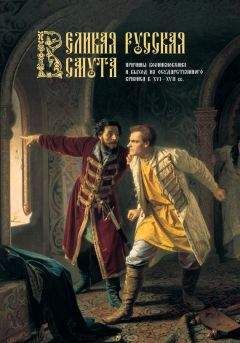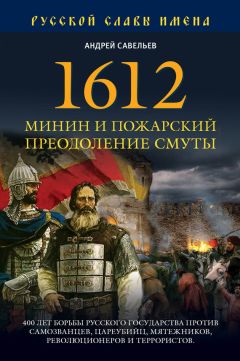Лжедимитрий спешил к Москве и расположился станом в селе Коломенском, памятном первою славою юного князя Михаила, коего уже не имело отечество для надежды! Что мог предприять царь злосчастный, побежденный гетманом и Самозванцем, угрожаемый Ляпуновым и крамолою, малодушием и зломыслием, без войска и любви народной? Рожденный не в век Катонов и Брутов, он мог предаться только в волю Божию: так и сделал, спокойно ожидая своего жребия и еще держась рукою за кормило государственное, хотя уже и бесполезное в час гибели; еще давал повеления, не внимаемые, не исполняемые, будучи уже более зрителем, нежели действователем с того времени, как узнали в Москве о бунте или неповиновении городов, видели под ее стенами знамена Лжедимитриевы и ежечасно ждали Сигизмундовых с гетманом. Дворец опустел; улицы и площади кипели народом; все спрашивали друг у друга, что делается и что делать? Ненавистники Василиевы уже громогласно требовали его свержения; кричали: «Он сел на престол без ведома земли Русской: для того земля разделилась; для того льется кровь христианская. Братья Василиевы ядом умертвили своего племянника, а нашего отца-защитника. Не хотим царя Василия!» Ни Самозванца, ниляхов – прибавляли многие, благороднейшие духом, следуя внушению Ляпунова Рязанского, брата его Захарии и князя Василия Голицына. Они превозмогли числом и знатностью единомышленников; гнушаясь Лжедимитрием, думали усовестить его клевретов, чтобы усилиться их союзом, и предложили им свидание. Еще люди чиновные окружали злодея тушинского: князья Сицкий и Засекин, дворяне Нагой, Сунбулов, Плещеев, дьяк Третьяков и другие. Съехались в поле, у Даниловского монастыря, как братья, мирно рассуждали о чрезвычайных обстоятельствах государства и вернейших средствах спасения, наконец взаимно дали клятву: москвитяне – оставить Василия, изменники – предать им Лжедимитрия, избрать вместе нового царя и выгнать ляхов. Сей договор объявили столице брат Ляпунова и дворянин Хомутов, выехав с сонмом единомышленников на Лобное место, где, кроме черни, находилось и множество людей сановных, лучших граждан, гостей и купцов: все громким кликом изъявили радость; все казались уверенными, что новый царь необходим для России. Но тут не было ни знатного духовенства, ни синклита, пошли в Кремль, взяли Патриарха, бояр, вывели их к Серпуховским воротам, за Москвою-рекою, и в виду неприятельского стана – указывая на разъезды Лжедимитриевой конницы и на Смоленскую дорогу, где всякое облако пыли грозило явлением гетмана, – предложили им избавить Россию от стыда и гибели, избавить Россию от Шуйского; соблюдали умеренность в речах: укоряли Василия только несчастьем. Говорили, что «земля Северская и все бывшие слуги Лжедмитриевы немедленно возвратятся под сень отечества, как скоро не будет Шуйского, для них ненавистного и страшного; что государство бессильно только от разделения сил: соединится, усмирится… и враги исчезнут!»
Раздался один голос в пользу закона и царя злосчастного – Ермогенов; с жаром и твердостью Патриарх изъяснял народу, что нет спасения, где нет благословения свыше; что измена царю есть злодейство, всегда казнимое Богом, и не избавит, а еще глубже погрузит Россию в бездну ужасов. Весьма немногие бояре и весьма нетвердо стояли за Шуйского; самые его искренние и ближние уклонились, видя решительную общую волю; сам Патриарх с горестью удалился, чтобы не быть свидетелем дела мятежного, – и сия народная дума единодушно, единогласно приговорила: «1) бить челом Василию, да оставит царство и да возьмет себе в удел Нижний Новгород; 2) уже никогда не возвращать ему престола, но блюсти жизнь его, царицы, братьев Василиевых; 3) целовать крест всем миром в неизменной верности к Церкви и государству для истребления их злодеев, ляхов и Лжедимитрия; 4) всею землею выбрать в цари, кого Бог даст; а между тем управлять ею боярам, князю Мстиславскому с товарищами, коих власть и суд будут священны; 5) в сей Думе Верховной не сидеть Шуйским, ни князю Дмитрию, ни князю Ивану; 6) всем забыть вражду личную, месть и злобу; всем помнить только Бога и Россию». В действии беззаконном еще блистал призрак великодушия: щадили царя свергаемого и хотели умереть за отечество, за честь и независимость.
Послали к Василию, еще венценосцу, знатного боярина, его свояка, князя Ивана Воротынского, с главными крамольниками, Захариею Ляпуновым и другими, объявить ему приговор Думы. Дотоле тихий Кремлевский дворец наполнился людьми и шумом, ибо вслед за послами стремилось множество дерзких мятежников и любопытных. Василий ожидал их без трепета, воспоминая, может быть, невольно о таком же стремлении шумных сонмов под его собственным предводительством к сему же дворцу в день расстригиной гибели!.. Захария Ляпунов, увидев царя, сказал: «Василий Иоаннович! Ты не умел царствовать: отдай же венец и скипетр». Шуйский ответствовал: «Как смеешь!..» – и вынул нож из-за пояса. Наглый Ляпунов, великан ростом, силы необычайной, грозил ему своею тяжкою рукою… Другие хотели сладкоречием убедить царя к повиновению воле
Божией и народной. Василий отвергнул все предложения, готовый умереть, но венценосцем, и волю мятежников, испровергающих закон, не признавая народною. Он уступил только насилию и был вместе с юною супругою [17 июля] перевезен из палат кремлевских в старый дом свой, где ждал участи Борисова семейства, зная, что шаг с престола есть шаг к могиле.
В столице господствовало смятение и скоро еще умножилось, когда народ сведал, что тушинские изменники обманули московских. Ляпунов и клевреты его немедленно объявили первым в новом свидании с ними у монастыря Даниловского, что Шуйский сведен с престола и что Москва вследствие договора ждет от них связанного Лжедимитрия для казни. Тушинцы ответствовали: «Хвалим ваше дело. Вы свергнули царя беззаконного: служите же истинному; да здравствует сын Иоаннов! Если вы клятвопреступники, то мы верны в обетах. Умрем за Димитрия!» Достойно осмеянные злодеями, москвитяне изумились. Сим часом думал еще воспользоваться Ермоген: вышел к народу, молил, заклинал снова возвести Василия на царство; но убеждениям доброго Патриарха не внимали: страшились мести Василиевой и тем скорее хотели себя успокоить.
Всеми оставленный, многим ненавистный или противный, немногим жалкий, царь сидел под стражею в своем боярском доме, где за четыре года перед тем в ночном совете знаменитейших россиян, им собранных и движимых, решилась гибель Отрепьева. Там в следующее утро явились Захария Ляпунов, князь Петр Засекин, несколько сановников с чудовскими иноками и священниками, с толпою людей вооруженных и велели Шуйскому готовиться к пострижению, еще гнушаясь новым цареубийством и считая келию надежным преддверием гроба. «Нет! – сказал Василий с твердостью. – Никогда не буду монахом» – и на угрозы ответствовал видом презрения; но, смотря на многих известных ему москвитян, с умилением говорил им: «Вы некогда любили меня… и за что возненавидели? За казнь ли Отрепьева и клевретов его? Я хотел добра вам и России; наказывал единственно злодеев – и кого не миловал?» Вопль Ляпунова и других неистовых заглушил речь трогательную.
Читали молитвы пострижения, совершали обряд священный и не слыхали уже ни единого слова от Василия: он безмолвствовал, и вместо него произносил страшные обеты монашества князь Туренин. Постригли и несчастную царицу Марию, также безмолвную в обетах, но красноречивую в изъявлении любви к супругу: она рвалась к нему, стенала, называла его своим государем милым, царем великим народа недостойного, ее супругом законным и в рясе инока. Их разлучили силою: отвели Василия в монастырь Чудовский, Марию в Ивановский; двух братьев Василиевых заключили в их дома. Никто не противился насилию безбожному, кроме Ермогена: он торжественно молился за Шуйского в храмах как за помазанника Божия, царя России, хотя и невольника; торжественно клял бунт и признавал иноком не Василия, а князя Туренина, который вместо его связал себя обетами монашества. Уважение к сану и лицу первосвятителя давало смелость Ермогену, но бесполезную.
Так Москва поступила с венценосцем, который хотел снискать ее и России любовь подчинением своей воли закону, бережливостью государственною, беспристрастием в наградах, умеренностью в наказаниях, терпимостью общественной свободы, ревностью к гражданскому образованию; который не изумлялся в самых чрезвычайных бедствиях, оказывал неустрашимость в бунтах, готовность умереть верным достоинству монаршему и не был никогда столь знаменит, столь достоин престола, как свергаемый с оного изменою: влекомый в келию толпою злодеев, несчастный Шуйский являлся один истинно великодушным в мятежной столице… Но удивительная судьба его ни в уничижении, ни в славе еще не совершилась!
Доселе властвовала беспрекословно сторона Ляпуновых и Голицына, решительных противников и Шуйского, и Самозванца, и ляхов: она хотела своего царя – ив сем смысле Дума писала от имени синклита, людей приказных и воинских, стольников, стряпчих, дворян и детей боярских, гостей и купцов ко всем областным воеводам и жителям, что Шуйский, вняв челобитью земли Русской, оставил государство и мир для спасения отечества; что Москва целовала крест не поддаваться ни Сигизмунду, ни злодею тушинскому; что все россияне должны восстать, устремиться к столице, сокрушить врагов и выбрать всею землею самодержца вожделенного. В сем же смысле ответствовали бояре и гетману Жолкевскому, который, узнав в Можайске о Василиевом низвержении, объявил им грамотою, что идет защитить их в бедствиях. «Не требуем твоей защиты, – писали они, – не приближайся, или встретим тебя как неприятеля». Но Дума Боярская, присвоив себе верховную власть, не могла утвердить ее в слабых руках своих, ни утишить всеобщей тревоги, ни обуздать мятежной черни. Самозванец грозил Москве нападением, гетман к ней приближался, народ вольничал, холопы не слушались господ, и многие люди чиновные, страшась быть жертвою безначалия и бунта, уходили из столицы даже в стан к Лжедмитрию, единственно для безопасности личной. В сих обстоятельствах ужасных сторону Ляпуновых и Голицына превозмогла другая, менее лукавая, ибо ее главою был князь Федор Мстиславский, известный добродушием и верностью, чуждый властолюбия и козней.