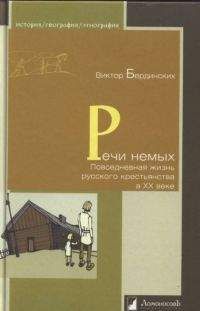Вернувшись, брат сказал, что не знал, что была война. Приехав домой, он не верил, что за ним не следят. Вернулся он весь больной: туберкулез легких, болезнь почек. А ведь был до ареста отличным физкультурником с красивым телосложением. Но он не мог без работы жить. Сначала на работу не брали, а потом он устроился на стройку инженером в Геленджике. Ему там климат больше подходил. Дали ему пенсию. После этого он прожил еще восемь лет и умер. Все время, пока он жил в Геленджике, я его материально поддерживала.
Я замужем не была. Был у меня парень, но, когда нужно было ехать знакомиться с его родителями, я не ответила ему на письмо и не поехала. Он снова мне написал, я опять не ответила, потому что в загсе заполнялась анкета, где стоял вопрос: есть ли в родне осужденные (а у меня это брат) — и таких не расписывали. И только спустя 40 лет я ответила на письмо своего жениха и объяснила свое молчание. Ведь я поддерживала связь с братом, пока он еще не был реабилитирован. А это запрещалось. Сейчас этот мой бывший парень живет тоже один, так и не женился. Я об этом узнала и ему написала.
* * *
Беляков Михаил Анатольевич, 1910 год, Тамбовская губ.
К Сталину раньше мы относились с большим уважением, верили в него как в бога. Были тогда стремления, были идеалы.
Помню рассказывал брат мне. Он жил в Москве в пятидесятых. Сталин умер тогда, хоронили его, и он был в этой огромной массе людей. Толпа шла за гробом, и эту толпу постоянно сдерживали. А вот сдерживали варварскими способами: ставили машины поперек дороги, открывали колодцы, отрезали толпы, направляли по другим улицам. После того как прошла толпа, осталась на дороге куча пуговиц, шапок, лежали и задавленные. Потом улицы не один день убирали. Очень много людей тогда погибло, ведь постоянная давка, много раненых, сердечные приступы в духоте. Ребра только так трещали. Люди гибли, но все равно продолжали идти за гробом. Мы тогда были похожи на стадо баранов, которые ничего не понимали. На улицах стоял вой огромный. А мой брат очень умный был человек, он всем говорил: «Чего ноете, придет новый, еще лучше этого». При нем порядок был. А сейчас черт-те что творят, ничего не боятся. Но это личное мое мнение.
* * *
N. N.
Раньше Сталин для всего народа был просто богом. Помню, пришли мы как-то с матерью в сельсовет. В «Красном углу» висел портрет Сталина, мать перекрестилась и меня заставила поклониться. Все жили в страхе, все боялись, но и уважали Сталина. Мы не могли себе представить, как жить без Сталина.
* * *
N. N.
Сталин для нас был бог и царь. Когда он умер, мы всей деревней ревели по нему. Мы даже думали благодаря Сталину. А и сейчас у меня нет на него зла. Нас он не обидел.
* * *
N. N.
Отец мой работал председателем сельсовета, организовывать колхозы помогал. Я помню, хоть и невелика была. В него кулаки два раза стреляли — когда коммуну организовывал и когда колхоз. Это только сейчас говорят, что они бедные высланные. Это все меня бесит. Сталина я и не считаю врагом народа. Он, конечно, не царь, не бог, смертный человек. Но его ругают за то, что он вернул исконные русские земли — Украину, Прибалтику. Зачеркнуть Сталина — все наше поколение зачеркнуть! А это время как будет называться? Период болтовни? Отец мой с семнадцатого года коммунист. А из партии потом исключили. Через два месяца восстановили. Ответ пришел — и подпись «Сталин». Так у нас портрет его большой висел. До сорок третьего года, пока отец не погиб. Потом мама икону повесила.
Все говорят — мы маршировали строем! Но мы были равные все!!!
* * *
Яковлев Павел Егорович, 1904 год, бухгалтер
На мой взгляд, Сталин — это подобный Ярославу Мудрому человек, того называли мудрым за то, что он, сидя и не выходя из царского дворца, знал, что делается на Руси. У Сталина таких, как Берия, было миллионы, и он верил им. Сталин расправился и с нашим зятем, последний работал в органах ВЧК, и он сослал его на север. Когда моя сестра поехала на свидание к мужу, то у мужа якобы получился разрыв сердца, а сестра на обратном пути пропала без вести.
Зубарева Дарья Зиновьевна, 1913 год, дер. Устины, крестьянка
Ведь как в деревне в те годы? Попробуй ссеки на меже елку, так тебе и голову ссекут. Видишь, как было — земля-то полосами была, а между ними вьюнка (это так огород называли). Кричат: «На твоей вьюнке коровы в поле попали!» Вот и идешь опять вьюнку городить. Любили землю-то. А женщина? Хозяйка. В огороде хозяйка, и над семьей хозяйка, и в поле иди не отставай. По году после родов не сидели, дни по два, по три самое большое, а тут иди в поле. У меня у самой пятеро, так со старшой дедушка водился, да со второй тетушка, а с остальными никто и не нянькался. Все одни.
У мужиков своя работа была. Баню они не топили, и с бельем на реку не ходили. У них — огород городить, пахать, дрова заготовлять. А старые-то люди, так те что могли, то и делали. Раньше семьи-то большие были: две молодушки в семье — дак две и зыбочки. Вот старички-то и качают то одну, то другую.
Русские люди простые — вот как я скажу. Ничего не знали о других людях-то, тогда ведь ничего не говорили о других странах. Жили, про соседние деревни только и знали: вот, мол, у Двойников молотить начали, в другой деревне то-то делается. А питались как? Картошка да хлеб, хлеб да картошка. Года бывали, что одним куколем да травой питались. В войну ведь мусор ели. Как, не знаю, люди и выжили. И в городах ничего не росло. Видно, уж правду говорят, что беда поодиночке не ходит. Война, так она и война. А летом ребенки за пестом ходили, за ягодами, за кисленкой. Грибы, конечно, а кто и на речке рыбу ботал.
А я про себя скажу: а ничё не было на себе, ни единой лапотинки. Лапти носили. Валенки были, так они только на праздники, на вылюдье. Главное — налоги душили. Вот смотри, налоги какие платили: страховка — ну, эту деньгами платили, потом налог военный, за бездетность налог опять же, налог на молоко, мясо, шерсть, яйца, потом заем еще. Бывало, все ночи сидели: подписывайся, да и все! Да как я подпишусь, если у меня платить нечем? Ведь ни рублика не платили. Весной, помнится, раз не подписалась, дак в сельсовет вызвали. «Надумала?» — спрашивают. «Да где, — говорю, — денег нет, а где мне взять?» Ну уперлись — давай да давай. Я уж утопиться пригрозила, так тогда струхнули.
Военный-то налог после войны порядком еще платили, точно не скажу, но долгонько.
Зубарев Василий Петрович, 1921 год, дер. Ивенцы, столяр
Колхозы… Пошло так, что ничего не стало. И отец ушел работать из колхоза стрелочником. Ведь в колхозе дадут 200 грамм зерна, и все. Плохо было, голодно. А как стрелочником-железнодорожником, то там хлебный паек, 700 грамм хлеба старшим, а младшим поменьше —300 грамм, папиросы, обувь.
Коллективизация… Помню. Все время споры. Одни говорят: «Не пойдем!» Другие насильно говорят — надо. То в одном доме собирают всех на собрание, то в другом, то в третьем. Вот, например, в нашем доме. Придут, всю ночь шумят, кричат. С боем шла коллективизация, тяжело. Но все-таки люди организовывались. Только что толку? Помню, когда перешел из второго класса в третий, голод был страшный на юге. И вот по Котласской дороге идут изможденные люди, еле-еле держатся. Как сейчас помню, два мужика, а между ними женщина. Еле идут, чуть-чуть попойдут — присядут, потом дальше идут. В ссылку. Так вот.
Сталин! Попробуй заикнуться. Все, что он скажет, для нас закон. Но были отступления от закона, таить нечего. Ежов, Берия такие делали выкрутасы, избави бог. Например, перед войной у отца была фотография. И там были сфотографированы он и один эсер. За эту фотографию его вызвали в НКВД и продержали неделю: «Вспоминай, кто это! Этот кто?»
Во времена Берии пошла такая неувязка. Мать держит корову — все сдай молоко. Пришлось зарезать корову. А в 1947 году мать от беспросветности положила руку на себя. Меня и отца обложили налогом: с отца —3,5 тысячи рублей, с меня —500 рублей. Командовал этим Берия. Сталин чихал на все это. Мы не могли выплатить. Тогда имущество забрали. Увезли, оценили за бесценок все.
Муратовских Анна Прокопьевна, 1926 год, агроном
В четырнадцать лет из колхоза нас собрали учиться в ФЗО, хоть мы не хотели учиться на слесарей, токарей. Делалось все это насильно. Увезли нас в Тагил, поставили к станку, не кормили. Показали, как работает станок, и заставляли работать. Я очень скучала, ведь оторвали насильно от земли, от родни. Не выдержали мы, сговорились и решили сбежать из ФЗО. А было это в декабре. Мороз —40 градусов. Садились в товарные поезда с углем и ехали. Три раза меня милиция с поезда снимала. Подержат немного, смотрят — девчонка худущая (при росте 170 сантиметров весила 35 килограммов), одни глазенки остались. Так и отпускали. А я снова на поезд и ехала. Добиралась восемь суток.