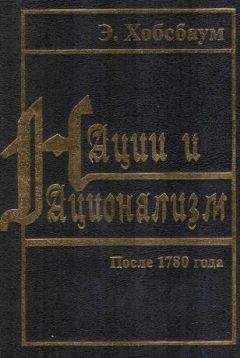До 1945 года (а отчасти и до сих пор) носителями различных диалектов немецкого языка, а также его литературной формы, присущей, скорее, правящему классу, были горожане и крестьяне, жившие не только в центрально-европейском регионе, но и по всему востоку и юго-востоку континента. Существовали также небольшие немецкие колонии в Северной и Южной Америке. Несомненно, все эти люди считали себя в известном смысле «немцами», подчеркивая свое отличие от других народов, среди которых им приходилось жить. Между немцами и другими этническими группами часто возникали трения и конфликты, преимущественно там, где немцы монополизировали важнейшие социальные функции (как, например, землевладельческий правящий класс в Прибалтике), — и однако, вплоть до XIX века не было, насколько я могу судить, ни одного случая, чтобы крупные политические проблемы возникали из-за того обстоятельства, что эти немцы жили под властью правителей иной национальности. Точно так же и евреи, жившие в рассеянии по всему миру в течение нескольких тысячелетий, всюду неизменно воспринимали себя как особый народ, отличающийся от всевозможных язычников, их окружавших, — однако подобная самоидентификация никогда (по крайней мере, со времен возвращения из вавилонского плена) не предполагала серьезного стремления к образованию собственных государственных структур, а тем более территориального государства, — пока в самом конце XIX века по аналогии с новомодным западным национализмом не был изобретен национализм еврейский. А значит, духовную связь евреев с праотеческой землей Израиля, ценность паломничества в эти места или надежду на возвращение туда с приходом Мессии (ибо, по мнению евреев, он, бесспорно, еще не явился) было бы совершенно неправомерно отождествлять с желанием объединить всех евреев в одно территориальное государство современного типа, расположенное на Святой Земле. С таким же успехом можно утверждать, что правоверные мусульмане, высшей мечтой для которых является путешествие в Мекку, совершая его, на самом деле хотят провозгласить себя гражданами страны, известной как Саудовская Аравия.
Так в чем же истинная сущность народного протонационализма? Вопрос необыкновенно сложный, ибо он требует проникновения в мысли и чувства людей неграмотных, вплоть до XX века составлявших громадное большинство населения земного шара. Мы знакомы с идеями той части образованного слоя, которая не только читала, но и писала (по крайней мере, некоторых подобных лиц), но переносить наши выводы с элиты на массу, с грамотных на неграмотных мы, безусловно, не вправе, пусть даже два эти мира и невозможно совершенно отделить друг от друга, а писаное слово влияло даже на тех, кто умел лишь говорить.[98] То, как воспринимал Volk[99] Гердер, нельзя считать бесспорным свидетельством о мыслях вестфальского крестьянина. Потенциальную глубину этой пропасти между образованными и необразованными иллюстрирует следующий пример. Немцы, составлявшие в Прибалтике класс феодалов, горожан и людей образованных, разумеется, чувствовали, что «над их головами висит Дамоклов меч национального мщения», поскольку, как выразился в своей «Ливонской Истории» (1695 г.) Кристиан Кельх (Kelch), эстонские и латышские крестьяне имели множество причин их ненавидеть («Selbige zu hassen wohl Ursache gehabt»). И все же у нас нет оснований думать, что эстонские крестьяне мыслили в подобных национальных терминах. Во-первых, они, по всей видимости, еще не сознавали себя отдельной этно-лингвистической группой. Само слово «эстонец» вошло в употребление только в 1860-е годы, а до этого крестьяне называли себя попросту «маарахвас», т. е. «деревенскими людьми». Во-вторых, основным значением слова saks (саксонец) было «господин» или «владыка», а значение «немец» оставалось вторичным. Один видный эстонский историк высказал весьма правдоподобное предположение: там, где люди образованные (немцы) читали в письменных памятниках «немец», крестьяне скорее всего имели в виду просто «помещика» или «господина»:
«С конца XVIII века местные священники и чиновники имели возможность читать сочинения просветителей о покорении Эстонии (эстонские крестьяне подобных книг не читали); слова крестьян они толковали соответственно собственному образу мыслей».[100]
А потому мы начнем с работы покойного Михаила Чернявского Царь и народ[101] — одной из немногих попыток выяснить взгляды тех, кто редко формулирует свои мысли по общественным вопросам в систематической форме и никогда их не записывает. Среди прочего Чернявский исследует в этой книге понятие «Святой Руси», или «святой Русской земли», для которого он находит не так уж много параллелей (самая близкая — «Святая Ирландия»). Пожалуй, он мог бы прибавить к ним и «das heil'ge Land Tirol» (святая земля Тироль), что дало бы повод для некоторых интересных сопоставлений. Согласно Чернявскому, земля становится «святой» только тогда, когда получает возможность претендовать на исключительную роль в деле всеобщего спасения, т. е. в случае с Россией — не ранее середины XV века, когда попытки воссоединения церквей и положившее конец Римской империи падение Константинополя сделали Россию единственной в мире православной страной, а Москву — Третьим Римом, иначе говоря, единственным источником спасения для человечества. Так, по крайней мере, должны были думать цари. И все же данное замечание Чернявского, строго говоря, не вполне уместно, поскольку выражение «Святая Русь» вошло в широкое употребление не раньше «смутного времени» (начало XVII века), когда ни царя, ни государства в России фактически не было. Более того, если бы даже они продолжали существовать, то никак не могли бы способствовать распространению этого термина, ибо ни царь, ни бюрократия, ни церковь, ни идеологи московской власти, судя по всему, никогда — ни до, ни после «смутного времени» — подобный оборот не использовали.[102] Короче говоря, понятие «Святой Руси» возникло, по-видимому, в народе и отражало народные представления. Его смысл хорошо иллюстрирует поэтическое творчество донских казаков середины XVII века, например, «Сказание об азовском осадном сидении» (город осаждали турки). Осажденные казаки поют: «Никогда уже не вернуться нам на Святую Русь; грешная наша жизнь кончится в степях. Мы умираем за твои чудотворные иконы, за веру христианскую, за царя и за все Московское государство».[103]Следовательно, святая Русская земля определяется через святые иконы, веру, царя, государство. Это весьма мощное сочетание — и не только потому, что «иконы», т. е. визуальные символы, например, флаги, до сих пор остаются самым обычным способом представления того, что невозможно увидеть глазами. Святая Русь, несомненно, есть идея народная, неофициальная, а вовсе не спущенная сверху властью. Рассмотрим вместе с Чернявским слово «Россия», которое он анализирует с тонкостью и проницательностью, унаследованными от своего учителя Эрнста Канторовича.[104] Держава царей как политическое целое была Россией (неологизм XVI–XVII вв., ставший официальным названием со времен Петра Великого). Между тем святая Русская земля всегда именовалась Русью, и до сих пор жители России называют себя русскими. Ни одно производное от официального «Россия» — а в XVIII веке подобные слова изобретались неоднократно — так и не сумело закрепиться в качестве определения русского народа и его представителей. Быть русским, напоминает нам Чернявский, значило быть крестьянином-христианином (характерный дублет!), а также «истинно верующим», т. е. православным. Такое народное и даже простонародное в своей основе понимание Святой Руси само по себе не имеет необходимой связи с понятием современной нации. В России их сближению явно способствовало то, что Святая Русь отождествлялась с главой церкви и государства. В «святой земле Тироль» подобного сближения, очевидно, не происходило, поскольку возникший после Тридентского собора понятийный комплекс «земля — иконы — вера — император — государство» работал в пользу римско-католической церкви и кайзера из династии Габсбургов (как собственно императора или как графа Тирольского) и против новейших концепций немецкой, австрийской и какой угодно «нации». Не стоит забывать, что в 1809 году тирольские крестьяне восстали не столько против французов, сколько против своих соседей-баварцев. В любом случае, независимо от того, можно ли отождествить «народ святой земли» с позднейшей «нацией» или нет, первое понятие безусловно предшествует второму. Заметим, однако, что среди признаков Святой Руси, Святого Тироля (и, вероятно, Святой Ирландии) отсутствуют те самые элементы, которые для нашего современного понимания «нации» являются чрезвычайно характерными, если не центральными: язык и этнос.