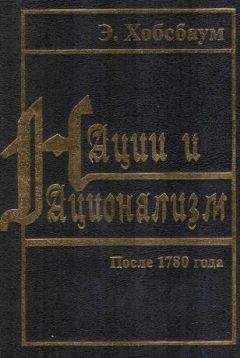И действительно, как же быть с языком? Разве не язык есть самая сущность того, что отличает один народ от другого, «нас» от «них», человека от варвара, который не способен говорить на человеческом языке, а только издает нечленораздельные звуки? Разве не известно всякому читателю Библии о Вавилонской башне и о том, как по правильному выговору слова «шиболет» различали своих и врагов? Разве греки, отнеся остальное человечество к «варварам», не определили себя тем самым через язык, «протонациональным» образом? И разве незнание языка другой группы не является самой очевидной помехой для общения, а потому и самой очевидной границей между группами, так что умение изъясняться на особом арго < до сих пор служит знаком принадлежности к определенной субкультуре, которая стремится отделить себя от прочих субкультур или от общества в целом?
Едва ли можно отрицать, что люди, которые живут бок о бок и говорят на друг другу непонятных языках, должны сознавать себя носителями одного определенного языка, в членах иных общностей видеть носителей других языков или, по крайней мере, людей, не владеющих их собственным (варваров или, как говорят славяне, немцев). Однако суть проблемы не в этом. Вопрос в том, действительно ли подобные лингвистические препятствия воспринимаются как непреодолимые барьеры между теми образованиями, которые можно рассматривать в качестве потенциальных национальностей или наций, а не просто как группы людей, испытывающих трудности в понимании речи своих соседей. Данная проблема переносит нас в область исследования сущности народных разговорных языков и их использования в качестве критерия принадлежности к определенной общности. Изучая оба эти вопроса, мы снова должны будем тщательно остерегаться смешивать дискуссии образованной элиты (а это почти единственные наши источники) с представлениями неграмотной массы и анахронистически переносить в прошлое понятия и институты XX века.
Нелитературный народный язык всегда является совокупностью местных вариантов или диалектов, которые взаимодействуют между собой с разной степенью легкости или трудности, зависящей от географической близости или доступности. Некоторые из них — главным образом, в горных районах, способствующих изоляции, — могут быть настолько непонятными для соседей, как если бы они принадлежали к иной языковой семье. Затруднения, которые испытывает житель Северного Уэльса в понимании валлийского языка выходцев из Южного Уэльса, или албанец, говорящий на гегском диалекте, — в понимании тоскского диалекта, стали в соответствующих странах темой для шуток и анекдотов. То обстоятельство, что каталанский ближе к французскому, нежели баскский, может сыграть решающую роль для филолога, но для моряка из Нормандии, оказавшегося в Байонне или в Порт Бу, местный язык мог быть поначалу столь же непонятным. До сих пор образованные немцы из какого-нибудь Киля способны испытывать огромные трудности в понимании речи образованных швейцарских немцев, когда последние говорят на том чисто немецком диалекте, который является для них обычным средством устного общения.
А значит, до введения всеобщего начального образования никакого разговорного «национального» языка не было и быть не могло, — за исключением тех литературных или административных форм и оборотов, которые записывались, приспосабливались или специально изобретались для устного употребления: либо в виде «лингва франка», на котором могли общаться люди, обычно говорившие на диалектах, либо (и это, пожалуй, ближе к нашей теме) в целях обращения к народной аудитории поверх диалектальных границ, т. е. для проповедников или для исполнителей песен и поэм, распространенных в более широком культурном ареале.[105] Размеры этой области потенциального понимания могли быть весьма различными.
Почти наверняка они были шире у представителей элиты, сфера деятельности и кругозор которых были не столь привязаны к определенной территории, как, например, у крестьян. И все же трудно представить по-настоящему разговорный «общенациональный язык», который бы развился исключительно на основе живой устной речи и охватывал сколько-нибудь значительный регион, — кроме гибридных языков типа «пиджин» или «лингва франка» (способных, разумеется, превратиться со временем в универсальный, «многоцелевой» язык). Иными словами, реальный, подлинный «родной язык», язык, который дети усваивали естественным образом от своих неграмотных матерей и использовали в повседневном общении, ни в каком смысле не мог быть языком «национальным». Но это, как я уже заметил, не исключает известного рода массовой культурной идентификации с определенным языком или с совокупностью бесспорно родственных диалектов, которые свойственны данной группе сообществ и отличают ее от соседей (как в случае с говорящими на венгерском). В пользу сказанного свидетельствует то обстоятельство, что позднейший национализм действительно мог порою иметь подлинно народные языковые протонациональные корни. Именно так, вероятно, обстояло дело с албанцами, которые со времен классической древности испытывали влияние соперничающих между собой культур, а кроме того разделялись на приверженцев трех, а если прибавить к исламу, православию и католицизму местный исламский культ бекташи, то даже четырех религий. И для пионеров албанского национализма было вполне естественно искать основу культурного единства албанцев именно в языке, поскольку религия, как и почти все остальное в Албании, скорее вносила раздор, нежели объединяла.[106] Но даже в этом, по видимости столь простом случае мы должны остерегаться чрезмерного доверия к свидетельствам людей образованных. Ибо нам отнюдь не ясно, в каком смысле и даже до какой степени простые албанцы конца XIX-начала XX вв. видели в себе албанцев и сознавали взаимную близость. Когда юноше-горцу с севера, проводнику Эдит Дархем, сказали, что у южных албанцев есть православные церкви, он ответил: «Они не христиане, а тоски». Это едва ли свидетельствует о сильном чувстве общности, и «невозможно с точностью определить, сколько же албанцев приехало в Соединенные Штаты, ибо первые иммигранты редко называли себя албанцами».[107] И даже зачинатели национального движения в Албании — стране смертельно враждующих кланов и владык — прежде чем апеллировать к языку, прибегали к иным, более убедительным доводам в пользу солидарности. Наим Фрашери (1846–1900) выразился так: «Все мы — единое племя и единая семья; у нас одна кровь и один язык».[108]Язык хотя и не забыт, но упомянут последним.
Следовательно, национальные языки почти всегда являются наполовину — а порой, как в случае с современным ивритом — вполне искусственными образованиями. Они представляют собой противоположность тому, чем их склонна считать националистическая мифология, т. е. первоосновой национальной культуры и глубочайшим истоком национального самосознания. Обычно это результат попыток построить единый образцовый язык из множества реально существующих в живой речи вариантов, которые низводятся затем до уровня «диалектов». Ключевая проблема подобного конструирования заключается обыкновенно в том, какой из диалектов следует избрать в качестве основы для стандартизированного и упорядоченного языка. Дальнейшие задачи — стандартизация и унификация грамматики и орфографии и обогащение новыми элементами лексики — являются второстепенными.[109] История почти каждого европейского языка ясно свидетельствует о его региональных истоках: болгарский литературный язык основывается на западно-болгарском диалекте, литературный украинский — на юго-восточных говорах; литературный венгерский возникает в XVI веке из сочетания нескольких диалектов; литературный латышский — это результат комбинации трех вариантов, литературный литовский — двух и т. д. Там же, где известны имена «создателей языков», — обычно это относится к языкам, достигшим литературного статуса в XVIII–XX вв. — выбор основы может быть произвольным (хотя и опирающимся на определенные аргументы).
Иногда подобный выбор является политическим или, по крайней мере, имеет очевидный политический подтекст. Так, например, хорваты говорили на трех диалектах (чакавском, кайкавском и штокавском), один из которых был также основным диалектом сербов. Кайкавский и штокавский диалекты выработали собственные литературные варианты. Великий апостол «иллиризма» хорват Людевит Гай (1809–1872) говорил и писал на своем родном кайкавском диалекте, но с 1838 года, желая подчеркнуть единство южных славян, перешел в своих трудах на штокавский. Таким образом он добился того, что а) сербохорватский стал развиваться как более или менее единый литературный язык (хотя на письме католики-хорваты использовали латинский алфавит, а православные сербы — кириллицу); б) хорватский национализм утратил языковое оправдание; в)сербы, а позднее и хорваты получили предлог для экспансии.[110] Порой, однако, «создатели языков» могут допускать ошибки. Около 1790 года в качестве основы словацкого литературного языка Берноляк избрал диалект, так и не сумевший утвердиться в этой роли, — зато через несколько десятилетий Людовит Штур нашел, как оказалось впоследствии, более жизнеспособный фундамент. В Норвегии националист Вергеланд (1808–1845) требовал создания более чистой формы норвежского языка, отличной от языка письменного, подверженного чрезмерному датскому влиянию, и подобный язык (ландсмаль, известный теперь как нюнорск) был очень быстро разработан. После того как Норвегия стала независимой, он получил официальную поддержку, однако смог утвердиться лишь в качестве языка, на котором говорит меньшинство, а с 1947 года в стране существуют de facto два письменных языка, причем только 20% норвежцев, главным образом на западе и в центре страны, используют нюнорск.[111] Разумеется, в некоторых более старых литературных языках необходимый выбор совершала история — когда, например, диалекты, связанные с областью действия королевской администрации, становились основой литературного языка в Англии и во Франции; или когда сочетание культурного престижа, македонской поддержки и широкого использования в сфере торговли и мореплавания способствовали превращению аттического диалекта в эллинистическое койне, или общегреческий язык.