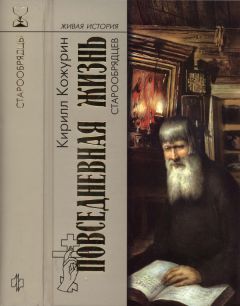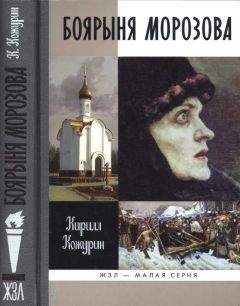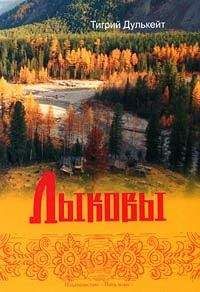В этой связи следует остановиться на таком общерусском явлении, как старчество. Многие исследователи совершенно справедливо относят его к числу наиболее характерных и специфических черт русского православия. В русском старчестве произошло своеобразное развитие древнейшего монашеского института духовного отцовства. Двойственная связь «монах — старец», изначально входившая в структуру православного монашеского уклада, со временем преобразовалась в институт духовного руководства, совета и назидания простых мирян. В частности, это имело место и в старообрядчестве. Не раз отмечалось, что старообрядческое движение в своем развитии опиралось на монастырский хозяйственный уклад и монашеский образ жизни. Собственно говоря, дом любого последовательного старообрядца представлял собою монастырь в миру. Это идеал, который рисовал ещё «Домострой», но который по-настоящему стал осуществляться в широком масштабе, видимо, только после раскола Русской Церкви — в той её части, которая осталась верной древлеправославной традиции, то есть у старообрядцев.
По этой причине, а также по причине пресечения правильно рукоположённого священства, древнерусская традиция старчества становится в старообрядчестве особенно актуальной. В этой связи характерно название одной книги, особенно популярной среди старообрядцев — «Старчество» — собрание деяний и изречений древних пустынников, прежде всего египетских отцов. Если и до раскола приходской священник воспринимался как представитель Церкви, который действовал исключительно от её имени и её силой, а по своим личным качествам, нравственным и духовным, мог никакими особыми достоинствами и не выделяться, то от старца, напротив, «требовалось непременное обладание личной харизмой и духовным авторитетом; его наставления выражали его собственный, добытый и пережитый им самим опыт подвига как Богообщения и единения с Богом. В нём важен и воздействовал — живой пример, самое явление его личности… В общении со старцем, в его наставлениях человеку явственно приоткрывался иной мир, иной, высший образ существования. Человек получал приобщение к жизни в подвиге и в устремлении к Богу, открывал для себя мерки этой жизни, её ценности, установки, подход — и пусть он не мог и не ставил целью следовать им во всей полноте, но он их усваивал в качестве твёрдых ориентиров своего мира»[41].
При таком подходе оказывалось: церковная иерархия вроде бы далеко не главное, что нужно для спасения души. А если учесть достаточно сильное падение нравственного уровня духовенства после Смутного времени, то можно догадаться, почему Капитон и его многочисленные последователи, искренне желая спастись, старались избегать священников, особенно злоупотреблявших вином, а затем начали «погордевати священным чином» и совсем перестали ходить в церковь.
Вместе с тем не нужно забывать, что вестернизация России началась задолго до Петра I. Мутный поток западных обычаев и идей хлынул на Русь ещё с приходом первого Самозванца, то есть как минимум в начале XVII века, и затем начал постепенно отравлять своими миазмами правящую элиту Русского государства и Русской Церкви. С появлением в Церкви новых веяний Капитон начинает яростно их обличать. Особенно резко критиковал он поклонение новым иконам, написанным под западным влиянием и изображавшим Христа реалистически и чувственно. Здесь невольно вспоминаются отзывы протопопа Аввакума о «новом искусстве»: «По попущению Божию умножися в нашей русской земли иконнаго писма неподобнаго изуграфы… Пишут Спасов образ Иммануила; лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу: понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя… А Богородицу чревату в Благовещение, яко же и фрязи поганыя. А Христа на кресте раздутова: толстехунек миленькой стоит, и ноги-те у него, что стулчики. Ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев!»[42]
Вполне естественно, что когда началась никоновская «реформация», Капитон безоговорочно принял сторону ревнителей старой веры и выступил с обличением новшеств. Теперь число учеников лесного старца увеличилось ещё больше за счёт тех, кому стало «сумнительно, что в церквах почали петь по новым книгам и в службах всё переменено». Неоднократно власти пытались выследить и арестовать Капитона, направляя воинские команды в вязниковские леса, но тщетно — старец был неуловим. «Но никакоже обрестися можаше, Самому Богу того покрывающу: иже во оной пустыни добре пожив, благочестие ревновав, святопреподобне преставися»[43]. Судя по всему, старец Капитон умер в конце 1650-х или в самом начале 1660-х годов. Последнее его местопребывание так и осталось тайной.
Дело Капитона продолжали его ученики: препоясанный железным поясом «дивный Леонид», строгий постник Симеон, «всепречудный Иаков», «всекрасный в пустынницех и предивный житием отец Прохор» и ученик Прохора, сподвижник самого Капитона — «великий и премудрый Вавила». Подвизаясь в вязниковских лесах, ученики Капитона проповедовали древлеправославие не только словом, но и личным примером. Постепенно учение лесных старцев широко распространилось среди крестьян Ярославского, Костромского, Рязанского, Владимирского, Тверского и Московского уездов. Слух о их иноческих подвигах и стоянии за старую веру быстро достиг столицы, и вязниковскими лесами заинтересовался приказ Тайных дел. В декабре 1665 года начался сыск, занявший около двух месяцев. За это время было арестовано до ста человек и сожжено 30 заклязьминских скитов.
Когда весть о приближении воинской команды достигла скитов, многие пустынники побежали ещё дальше в леса. Звали ученики бежать с собой и отца Прохора. Он же спокойно отвечал им: «Идите, чада, и укрыйтеся скоро, мене оставльше. Ибо аз прежде вас тако убежу, яко никогдаже постижен буду ловящими». Ученики блаженного отца Прохора удивились, но ослушаться старца не посмели и оставили скиты, поскольку воинская команда была уже совсем невдалеке. Старец же затеплил свечу и, приготовив кадило, вложил в него ладан. Покадив святые иконы и свою келию, он со многими слезами прочёл своё келейное правило. Воины уже подходили к его келии, когда он закончил молиться. Прохор спокойно лёг на своё ложе, оградил себя крестным знамением и, крестообразно сложив руки на груди, тихо отошёл к Богу. Ворвавшиеся в келию воины увидели чудную картину: свеча перед иконами ещё горела, кадило дымилось, испуская благоуханный дым, а старец без дыхания мирно покоился на своём ложе. Лицо его было необыкновенно спокойно и светло. Объятые страхом, воины выбежали вон из келии.
Среди лесных старцев, последователей Капитона, особо выделяется ученик отца Прохора Вавила, «рода иноземческа, веры люторския». Как видим, поиск святости приводил в Капитоновы скиты не только простых русских мужиков. «Всеизрядный любомудрец» Вавила, окончивший парижскую Сорбонну и освоивший все тонкости современных ему богословия и философии, также нашёл путь к Богу у лесных старцев. Изучив в совершенстве греческий, латинский, древнееврейский и немецкий языки за время учёбы в университете, он впоследствии овладел русским и церковнославянским.
Этот необыкновенный человек приехал в Россию ещё при царе Михаиле Фёдоровиче и, как пишет автор его Жития, «осиян быв всепресветлыми благочестия лучами» и «яко из лавиринфа некоего… от бездвернаго люторскаго вредословия изшед», принял крещение по православному обряду. Став православным, Вавила решил вести строго подвижническую жизнь, сторонясь мирской суеты. Он становится послушником и учеником отца Прохора, неотлучно пребывая при нём. Никоновские реформы, до основания потрясшие корабль Русской Церкви, заставили Вавилу выйти из своего лесного затвора, где он пребывал в безмолвии, и выступить с открытыми обличениями новшеств. Его проповедь пользовалась большим успехом среди народа. Обладая даром красноречия и будучи человеком глубоко образованным, в особенности же в вопросах богословия, Вавила представлял для никониан серьёзную опасность. Он был арестован и доставлен в город на допрос.
На предложение принять новые книги и обряды Вавила смело отвечал: «Аз, о судие, не зело в древних летех: к российстей кафолическаго православия приступих церкви, не мню бо вящьши тридесятих лет сему быти; не яко во младенчестве неразумия безъиспытно приях веру. Но испытуя испытах православия непорочность. Испытав же познах чудное доброты, познав, всеверне приях, прием же очистихся, просветихся и обогатихся дивным православия богатством. Еда (когда) убо неправославна бяше в России вера, ейже благовразумительно научихся? Ей, православна! Еда неправославно бяше крестное знамение, ему же всепрелюбезно от души привязахся? Ей, православно! Еда догматы и предания неблагочестны беша, ими же мя тогда увериша? Воистину благочестивы и православны! Аще же православны якоже и суть: кая ина есть вера паче православныя? Кия догматы ины паче благочестивых? Кая церковь иная паче кафолическия, к ней же приступих? То ныне мя увещевает: яко един Господь, едина вера древлеправославная, едина церковь древлекафолическая, едино всеблагодатное крещение, во оной совершаемое церкви. Не солгу тебе, святая и православная веро. Не солгу тебе, православно-кафолическая церкви. Испытах единожды, веровах единожды, обещахся единожды; и приях претеплою всежелательне верою всерадостно и до ныне содержу богатство онаго многоценнаго сокровища всерадостно и душею моею просвещаюся. Аще же толикою верою прия и тако содержу, еже веровах, лист ли ныне трясомый ветром буду? Никакоже. Облак ли безводный, вихром преносимый явлюся? Никогдаже. В научение ли странное и новое прилагатися возжелаю? Не даждь ми, Боже! Се убо праведно и ясно тебе, о судие, извещаюся: не сломлю моих обетов, ими же всеблагодатне просветихся, не приемлю новаго сего вновоправленнаго вами благочестия, наводящаго ми отеческия клятвы и Божие негодование! Ибо самое имя новости нетвердость основания являет, все бо новое, не есть древнее. Аще же не древнее есть: убо ниже отеческое. Аще же не отеческое, убо ниже предание глаголатися может: но вымышление некое вновь смышленное, человеческими хитростьми изобретенное. Откуду и всякия твердости отлучено есть, всякия же гнилости преполно. Есть ли не твердо и гнило, убо ниже приятно быти может. Верно слово и всякаго приятия достойно…»[44]