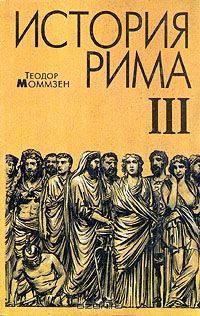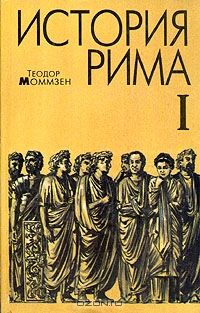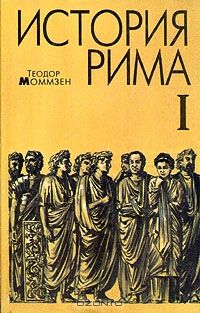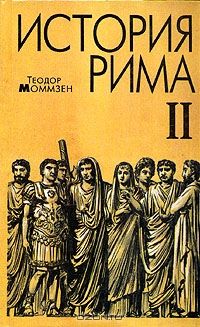Вскоре пошли и дальше. То, что проводил Цицерон в прозе, то же в конце эпохи проводила в области поэзии новая римская поэтическая школа, примыкавшая к греческой модной поэзии; замечательнейшим ее талантом был Катулл. И здесь язык высшего общества вытеснил господствовавшие еще в этой области архаические реминисценции, и подобно тому как латинская проза подчинилась аттическому ладу, так и латинская поэзия постепенно подчинилась строгим или, скорее, тягостным метрическим законам александрийцев. Так, например, со времен Катулла уже не считается более позволенным начинать стих односложным или же не особенно важным двухсложным словом и ими же оканчивать предложение, начатое в предшествующем стихе.
Наконец, на помощь пришла наука; она зафиксировала законы языка и установила правила, которые более не определялись эмпирическим путем, но имели притязание сами определять эмпирические положения. Окончания в склонениях, отчасти неустойчивые еще до этих пор, должны были теперь раз навсегда быть установлены; так, например, из двух форм родительного и дательного падежей так называемого четвертого склонения, употреблявшихся до той поры безразлично (senatuis — senatus, senatui — senatu), Цезарь удержал исключительно краткую (us и u). Многое было изменено и в орфографии, для того чтобы установить большее согласование между письменностью и речью; так, например, внутреннее «u» было, по инициативе Цезаря, заменено посредством «i» в таких словах, как maxumus; из двух букв, k и q, сделавшихся теперь бесполезными, первая была уничтожена, вторая предложена к уничтожению. Язык, если еще не окаменел в известной форме, то по крайней мере был к этому близок; он не подчинялся еще автоматически правилам, но уже начал сознавать их силу. Что для этой деятельности в области латинской грамматики греческая грамматика не только давала вообще метод и руководящие идеи, но что латинский язык просто исправлялся по образцу греческого, доказывает, например, трактовка конечного s, которое до той поры то считалось, то не считалось согласной, совершенно завися от усмотрения, новомодными же поэтами трактовалось обычно, как и в греческом языке, в качестве конечной согласной. Это регулирование языка представляет собой специфическую область римского классицизма; самыми различными приемами (что поэтому тем знаменательнее) корифеи его — Цицерон, Цезарь, даже Катулл в своих стихотворениях — вкореняют эти правила и порицают нарушение их, между тем как старшее поколение выражает понятное неудовольствие по поводу революции, проникавшей в область языка так же бесцеремонно, как и в политическую сферу 123 . Но в то время как новый классицизм, т. е. исправленная, образцовая латынь, по возможности приравненная к образцовому греческому языку, получила под влиянием сознательной реакции против вульгаризма, проникшего в высшее общество и даже в словесность, литературное закрепление и образцовую форму, сам вульгаризм отнюдь еще не сдавал позиций. Мы не только встречаем его во всей наивности в сочинениях второстепенных авторов, лишь случайно попавших в число писателей, как, например, в отчете о второй испанской войне Цезаря, но мы встретим более или менее ясный отпечаток его и в настоящей литературе, в миме, в полуромане, в эстетических произведениях Варрона; и характерно, что вульгаризм этот удерживается чаще всего именно в чисто национальных областях литературы и что истые консерваторы, вроде Варрона, берут его под свою защиту. Классицизм развился на обломках италийского языка, как монархия возникла из гибели италийской нации; вполне последовательно было, что люди, в которых еще жил республиканский дух, продолжали воздавать должное и живому языку и примирились с его эстетическими недостатками из-за его относительной жизненности и народности. Так, взгляды и направления в сфере языка в эту эпоху повсюду идут в различных направлениях; наряду со старомодной поэзией Лукреция возникает вполне новая поэзия Катулла, рядом с правильно построенными периодами Цицерона — предложения Варрона, умышленно пренебрегающего всяким делением речи. Даже в этом отражается современный разлад.
В литературе этого периода, сравнительно с прежней, прежде всего обращает на себя внимание внешнее развитие литературной жизни в Риме.
Литературная деятельность греков давно уже процветала не в свободной атмосфере гражданской независимости, но исключительно в научных учреждениях больших городов и в особенности различных дворов. Эллинские писатели привыкли возлагать надежды на милость и охрану со стороны высокопоставленных людей, но когда вымерли династии пергамская (621) [133 г.], киренская (658) [96 г.], вифинская (679) [75 г.] и сирийская (690) [64 г.] и пришел в упадок некогда блестящий двор Лагидов, они вытеснены были из прежних приютов муз 124 . Кроме того, со времени смерти Александра Великого они, естественно, стали космополитами, и по крайней мере среди египтян и сирийцев являлись такими же чужестранцами, как и между латинами; при таких условиях они все более и более начинали обращать свои взоры к Риму. Наряду с поваром, красивым мальчиком, шутом в толпе греческих прислужников, которыми окружал себя знатный римлянин того времени, выдающуюся роль играли и философ, поэт и составитель мемуаров. Мы встречаем уже в таком положении известных литераторов, как, например, эпикурейца Филодема, являющегося домашним философом при Луции Пизоне, консуле 696 г. [58 г.], и вместе с тем потешавшего посвященных людей искусными эпиграммами на грубоватый эпикуреизм своего патрона. Со всех сторон стекались в Рим все в большем числе известнейшие представители греческого искусства и науки, зная, что в Риме литературный заработок был теперь обильнее, чем где-либо. Так, мы находим упоминание как о людях, прочно поселившихся в Риме, о враче Асклепиаде, которого царь Митрадат тщетно пытался привлечь на свою службу; об ученом на все руки Александре Милетском, прозванном Полигистором; находим поэта Парфения из Никеи Вифинской; далее, прославляемого одинаково и как путешественника и как учителя и писателя Посидония из Апамеи в Сирии, который в преклонном возрасте переселился в 703 г. [51 г.] из Родоса в Рим, и много других. Такой дом, как, например, дом Луция Лукулла, имел почти такое же значение, как александрийский Музей, являясь центром эллинской образованности и местом собраний эллинских литераторов. Римские средства и эллинские знания соединили в этих дворцах богатства и науки несравненные сокровища ваяния и живописи и работы древних и современных мастеров и старательно составленную и роскошно обставленную библиотеку, и всякий образованный человек, в особенности каждый грек, встречал здесь радушный прием. Часто можно было видеть самого хозяина прогуливающимся взад и вперед с кем-нибудь из своих ученых гостей под прекрасной колоннадой и занятым филологическим или философским разговором. Конечно, эти греки заносили в Италию вместе со своими научными сокровищами и свою развращенность и свое лакейство. Так, один из этих ученых скитальцев, автор «Искусства льстивых речей» Аристодем из Нисы (около 700 [54 г.]), чтобы отрекомендовать себя своим покровителям, доказывал, что Гомер был природный римлянин!
В такой же степени, в какой развивалась деятельность греческих писателей в Риме, усилились и у самих римлян литературная деятельность и литературные интересы. Даже писательская деятельность на греческом языке, совершенно устраненная строгим вкусом эпохи Сципиона, снова возродилась. Греческий язык был теперь языком всемирным, и греческое сочинение находило для себя совсем других читателей, чем латинское; поэтому, подобно царям Армении и Мавретании, и римские магнаты, как, например, Луций Лукулл, Марк Цицерон, Тит Аттик, Квинт Сцевола (народный трибун 700 г. [54 г.]), при случае пописывали и греческой прозой и даже греческими стихами. Но подобное писательство на греческом языке для природных римлян оставалось побочным делом, почти забавой; и литературные и политические партии Италии сходились все-таки в решимости отстаивать италийскую народность, лишь более или менее пропитанную эллинизмом. Кроме того, в области латинского писательства нельзя было пожаловаться по крайней мере на отсутствие предприимчивости. В Риме дождем лились книги, всевозможные брошюры, а, главное, стихотворения; столица кишела поэтами не хуже Тарса или Александрии; поэтические сочинения сделались неизменным грехом молодости каждого человека со сколько-нибудь подвижной натурой, и тогда уже стали считать счастливым того, чьи юношеские стихотворения были скрыты от взоров критики сострадательным забвеньем. Кто проник в тайны этого ремесла, тот без труда писал в один прием 500 строк гекзаметром, в которых ни один учитель не нашел бы, к чему придраться, и ни один читатель не знал бы, что хвалить. И женщины также усердно участвовали в этой литературной суете; дамы не ограничивались танцами и музыкой, а благодаря острому уму и юмору руководили беседой и прекрасно рассуждали о греческой и латинской литературе; если же случалось, что поэзия вела осаду против девичьих сердец, то осаждаемая крепость нередко капитулировала тоже миленькими стихами. Ритмы все более и более становились изящной игрушкой для взрослых детей обоего пола; поэтические записки, совместные поэтические упражнения и стихотворные состязания между приятелями были чем-то совершенно обыкновенным, и к концу этой эпохи были уже открыты в столице заведения, в которых не оперившиеся еще латинские поэты могли за известную плату научиться кропать стихи. Вследствие большого спроса на книги техника списывания рукописей фабричным способом значительно усовершенствовалась, и распространение изданий производилось сравнительно быстро и дешево: книжная торговля стала почетным и прибыльным промыслом, а книжная лавка — обычным местом собраний для образованных людей. Чтение сделалось модой, даже манией; за столом, в тех домах, куда еще не закрались более грубые забавы, постоянно читали вслух, а кто собирался в путешествие, тот не забывал уложить и дорожную библиотечку. Офицеров можно было видеть в лагерное время со скабрезным греческим романом в руках, государственного человека в сенате — с философским трактатом. В римском государстве установились такие порядки, которые всегда были и будут во всех государствах, где граждане читают «от порога дома вплоть до отхожего места». Парфянский визирь был прав, когда, указав гражданам Селевкии на романы, найденные в лагере Красса, он спросил их, неужели они все еще продолжают считать читателей подобных книг страшными противниками.