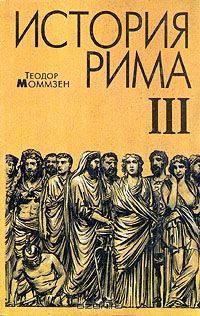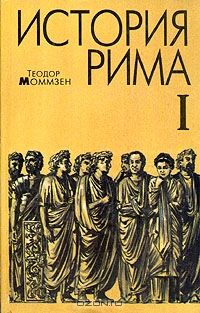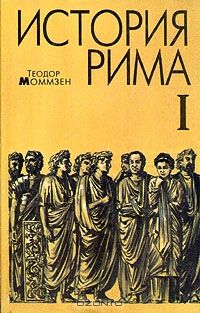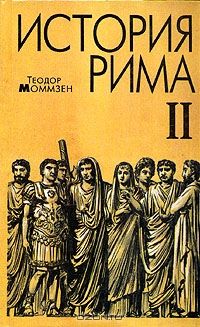В такой же степени, в какой развивалась деятельность греческих писателей в Риме, усилились и у самих римлян литературная деятельность и литературные интересы. Даже писательская деятельность на греческом языке, совершенно устраненная строгим вкусом эпохи Сципиона, снова возродилась. Греческий язык был теперь языком всемирным, и греческое сочинение находило для себя совсем других читателей, чем латинское; поэтому, подобно царям Армении и Мавретании, и римские магнаты, как, например, Луций Лукулл, Марк Цицерон, Тит Аттик, Квинт Сцевола (народный трибун 700 г. [54 г.]), при случае пописывали и греческой прозой и даже греческими стихами. Но подобное писательство на греческом языке для природных римлян оставалось побочным делом, почти забавой; и литературные и политические партии Италии сходились все-таки в решимости отстаивать италийскую народность, лишь более или менее пропитанную эллинизмом. Кроме того, в области латинского писательства нельзя было пожаловаться по крайней мере на отсутствие предприимчивости. В Риме дождем лились книги, всевозможные брошюры, а, главное, стихотворения; столица кишела поэтами не хуже Тарса или Александрии; поэтические сочинения сделались неизменным грехом молодости каждого человека со сколько-нибудь подвижной натурой, и тогда уже стали считать счастливым того, чьи юношеские стихотворения были скрыты от взоров критики сострадательным забвеньем. Кто проник в тайны этого ремесла, тот без труда писал в один прием 500 строк гекзаметром, в которых ни один учитель не нашел бы, к чему придраться, и ни один читатель не знал бы, что хвалить. И женщины также усердно участвовали в этой литературной суете; дамы не ограничивались танцами и музыкой, а благодаря острому уму и юмору руководили беседой и прекрасно рассуждали о греческой и латинской литературе; если же случалось, что поэзия вела осаду против девичьих сердец, то осаждаемая крепость нередко капитулировала тоже миленькими стихами. Ритмы все более и более становились изящной игрушкой для взрослых детей обоего пола; поэтические записки, совместные поэтические упражнения и стихотворные состязания между приятелями были чем-то совершенно обыкновенным, и к концу этой эпохи были уже открыты в столице заведения, в которых не оперившиеся еще латинские поэты могли за известную плату научиться кропать стихи. Вследствие большого спроса на книги техника списывания рукописей фабричным способом значительно усовершенствовалась, и распространение изданий производилось сравнительно быстро и дешево: книжная торговля стала почетным и прибыльным промыслом, а книжная лавка — обычным местом собраний для образованных людей. Чтение сделалось модой, даже манией; за столом, в тех домах, куда еще не закрались более грубые забавы, постоянно читали вслух, а кто собирался в путешествие, тот не забывал уложить и дорожную библиотечку. Офицеров можно было видеть в лагерное время со скабрезным греческим романом в руках, государственного человека в сенате — с философским трактатом. В римском государстве установились такие порядки, которые всегда были и будут во всех государствах, где граждане читают «от порога дома вплоть до отхожего места». Парфянский визирь был прав, когда, указав гражданам Селевкии на романы, найденные в лагере Красса, он спросил их, неужели они все еще продолжают считать читателей подобных книг страшными противниками.
Литературные течения этого времени не были и не могли быть единообразными, так как вся жизнь эпохи колебалась между старыми и новыми формами. Те же самые направления, которые боролись на политической арене, — национально-италийское направление консерваторов и эллино-италийское или, пожалуй, космополитическое новой монархии — давали друг другу сражения и в литературной области. Первое опиралось на древнюю латинскую литературу, все более и более принимавшую на сцене, в школе и в ученых исследованиях характер классицизма. С меньшим вкусом и большей партийной тенденциозностью, чем в сципионовское время, стали теперь превозносить до небес Энния, Пакувия и в особенности Плавта. Листки Сивиллы поднимались в цене по мере того, как число их уменьшалось; народность и производительность поэтов VI в. [сер. III — сер. II вв.] никогда не ощущались живее, чем в эту эпоху развившегося эпигонства, когда в литературе и в политике смотрели на эпоху борьбы с Ганнибалом, как на золотое, к сожалению, безвозвратно минувшее время. Правда, в этом поклонении древним классикам было много пустоты и лицемерия, которые вообще свойственны консерватизму этой эпохи, однако в людях, державшихся золотой середины, не было недостатка и здесь. Так, например, Цицерон, хотя и был в своих прозаических сочинениях главным представителем современного направления, тем не менее поклонялся древнейшей национальной поэзии приблизительно тем же нездоровым поклонением, с каким он относился и к аристократической конституции и к науке авгуров. «Патриотизм требует, — говорил он, — чтобы скорее читали заведомо скверный перевод Софокла, чем оригинал». Итак, если современное литературное направление, родственное демократической монархии, насчитывало достаточное число тайных приверженцев даже в среде правоверных почитателей Энния, то не было недостатка и в более смелых судьях, которые так же бесцеремонно обращались с родной литературой, как и с сенаторской политикой. Мало того, что была возобновлена строгая критика эпохи Сципиона, что Теренций вошел в славу лишь для того, чтобы осудить Энния, а еще более его приверженцев, молодое и более отважное поколение шло значительно дальше и уже осмеливалось, правда, все еще принимая вид еретического возмущения против литературного правоверия, называть Плавта грубым шутником, Луцилия плохим стихоплетом. Вместо своей литературы это современное направление опиралось скорее на новейшую греческую словесность или на так называемый александринизм.
Нельзя не сказать здесь об этой любопытной искусственной теплице эллинского языка и искусства хоть столько, сколько необходимо для понимания римской литературы этой и позднейших эпох. Александрийская литература обязана своим возникновением упадку чисто эллинской речи, замененной со времени Александра Великого совершенно огрубевшим жаргоном, который возник прежде всего из соприкосновения македонского наречия с говором многих греческих и варварских племен; или, говоря точнее, александрийская литература сложилась на развалинах эллинской нации вообще, которая должна была утратить и действительно утратила свою народную индивидуальность для того, чтобы могла возникнуть всемирная монархия Александра и господство эллинизма. Если бы всемирная держава Александра устояла, то место прежней национальной и народной литературы заступила бы литература без национальности, космополитическая, лишь по имени эллинская и до известной степени созданная свыше, но которая, тем не менее, властвовала бы над миром; но как царство Александра распалось с его смертью, так и зачатки порожденной им литературы быстро погибли. Но греческая нация со всем, чем она обладала, с ее народностью, языком, искусством, все же принадлежала прошлому. Лишь в сравнительно узкой среде людей не образованных, которых как таковых уже больше не было, а ученых, занимались еще изучением греческой литературы как уже мертвой; был составлен с грустным наслаждением или сухим педантизмом как бы инвентарь ее богатого наследия, и живое позднейшее чутье или мертвая ученость поднимались до степени кажущейся производительности. Этой посмертной производительностью и является так называемый александринизм. Он, по существу, сходен с той ученой литературой, которая, отрешаясь от живых романских народностей и их народных наречий, расцвела в XV и XVI вв. в космополитической сфере, насыщенной филологией, и явилась искусственным вторичным цветением исчезнувшей древности; противоположность между классическим и народным греческим слогом времен диадохов, конечно, менее резкая, но, в сущности, такая же, как между латынью Манууия и итальянским языком Макиавелли.
До той поры Италия относилась в сущности отрицательно к александринизму. Время относительного его процветания относится к эпохе первой пунической войны; несмотря на это, Невий, Энний, Пакувий и вообще вся национально-римская школа писателей вплоть до Варрона и Лукреция примыкала во всех отраслях поэтического творчества, не исключая и дидактических произведений, не к своим греческим современникам или недавним предшественникам, но к Гомеру, Еврипиду, Менандру и другим выдающимся представителям живой и народной греческой литературы. Римская литература никогда не была свежей и национальной, но пока существовал римский народ, его писатели инстинктивно обращались к живым и народным образцам и подражали, если не особенно искусно и не всегда самым лучшим оригиналам, то все же оригиналам. Греческая литература, возникшая после Александра, впервые нашла себе в Риме подражателей (незначительные проблески подобного движения во времена Мария едва ли могут быть приняты в расчет) между современниками Цицерона и Цезаря; вслед за тем римский александринизм стал уже распространяться с ускоренной быстротой. Это вызывалось отчасти внешними причинами. Усиливавшееся общение с греками, в особенности частые путешествия римлян в эллинские страны и скопление греческих литераторов в Риме, естественно, создавали и среди италиков читателей текущей греческой литературы, распространенной тогда в Греции, а именно — эпической и элегической поэзии, эпиграмм и милетских сказок. Так как александрийская поэзия, как уже было указано, внедрилась в школьное обучение италийского юношества, то это тем более отразилось на латинской литературе, и она во все времена в основном зависела от эллинского школьного образования. Тут замечается даже непосредственная связь между новой римской и новой греческой литературой; упомянутый уже Парфений, один из наиболее известных александрийских элегиков, открыл в Риме (по-видимому, около 700 г. [54 г.]) школу литературы и поэзии, и до нас дошли даже отрывки, в которых он давал одному своему знатному ученику сюжеты для латинских эротико-мифологических элегий по известному александрийскому рецепту. Но не только эти случайные поводы вызвали к жизни александрийскую школу в Риме; она была если не отрадным, то во всяком случае неизбежным продуктом политического и национального развития Рима. С одной стороны, Лаций растворился в романизме, как Эллада в эллинизме; национальное развитие Италии переросло себя и, наконец, растворилось в Цезаревой монархии, подобно тому как эллинское — в восточной державе Александра. Если, с другой стороны, новая империя основывалась на том, что могучие потоки греческой и латинской национальности, текшие в продолжение тысячелетий в параллельных руслах, отныне, наконец, слились, то и италийская литература должна была не только искать, как прежде, в греческой литературе точку опоры, но и стараться стать на один уровень с современной греческой литературой, т. е. александринизмом. Вместе со школьной латынью, ограниченным числом классиков и замкнутым кружком «светских людей», читавших классиков, умерла безвозвратно и национальная латинская литература. Вместо нее возникла искусственно культивируемая имперская литература, имевшая все признаки эпохи эпигонов; она была основана не на определенной национальности, а проповедовала на двух языках всем понятное евангелие гуманности и в духовном отношении вполне и сознательно зависела от эллинской, по языку же — и от эллинской и от древнеримской народной литературы. Это не было, однако, движением вперед. Средиземноморская монархия Цезаря была, конечно, грандиозным и, что еще важнее, необходимым творением; но она была создана сверху, и поэтому в ней нельзя найти и следа той свежей народной жизни, избытка национальной силы, которые свойственны более юным, менее обширным, более естественным государственным организмам и могли еще наблюдаться в италийском государстве в течение VI в. [сер. III — сер. II вв.]. Падение италийской национальности, нашедшее свое завершение в творении Цезаря, точно вырвало у литературы самую сердцевину. Тот, кто одарен пониманием внутреннего сродства искусства с народностью, всегда будет от Цицерона и Горация обращаться назад к Катону и Лукрецию; и только укоренившийся в этой области школьный взгляд на историю и литературу мог привести к тому, что эпоха римского искусства, начавшаяся одновременно с новой монархией, могла прослыть по преимуществу золотым веком. Но если римско-эллинский александринизм эпохи Цезаря и Августа должен уступить (хотя и несовершенной) древнейшей национальной литературе, то, с другой стороны, он столь же решительно превосходит александринизм времен диадохов, как прочное построение Цезаря — эфемерное создание Александра. Позднее мы увидим, как литература времени Августа, в сравнении с родственной ей литературой эпохи диадохов, была гораздо менее чисто филологическим занятием и гораздо больше имперской литературой, и поэтому влияние ее в высших кругах общества было гораздо продолжительнее и универсальнее, чем это когда-либо было у греческого александринизма.