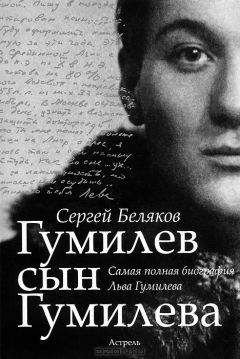Савицкий признавался Гумилеву, что после оккупации Чехословакии немцами (весной 1939-го) перестал посещать пражские библиотеки, а значит, перестал читать научные журналы и следить за новинками. Правда, в его распоряжении была огромная (10 тысяч томов) семейная библиотека, а друзья из Америки, Англии и СССР время от времени присылали ему книги. Но для занятий востоковедением этого мало. Савицкий помогал Гумилеву советами, подбадривал, иногда критиковал, но ведь Петр Николаевич не был ни тюркологом, ни монголистом. Самые дельные его замечания касались русской истории.
Наконец, темперамент Петра Николаевича больше подходил публицисту, чем исследователю. Петр Николаевич был человеком чересчур увлекающимся. Темперамент мешал ему даже больше, чем Гумилеву. «Над альбомом "Древнее искусство Алтая" я пропел песнь торжествующего кочевниковеда», — писал он Вернадскому и Гумилеву. Воодушевленный советскими успехами в космосе, Савицкий писал своему ленинградскому другу: «Мир земных кочевников перерождается в мир кочевников Вселенной. <…> Вперед же, на новые кочевья Вселенной!» Возможно, неоевразийцу Дугину это и понравится. Александр Проханов будет в восхищении. Но даже Гумилев, кажется, остался равнодушен и к полетам в космос, и к таким странным обобщениям.
Савицкий привлек к сотрудничеству в «Евразийском книгоиздательстве» искусствоведа и археолога Николая Петровича Толля, который преподавал тогда в Пражском университете и был вицедиректором Семинария (института) имени Н.П.Кондакова, созданного русскими эмигрантами, учениками знаменитого византиниста. Возможно, привлечь Толля к сотрудничеству помогли родственные связи – Николай Петрович был женат на Нине Вернадской, сестре евразийца Георгия Вернадского. Но и Толль был не тюркологом и не «кочевниковедом», а иранистом и византинистом. Для «Евразийского книгоиздательства» он написал небольшую, 77 страниц, книгу «Скифы и гунны: из истории кочевого мира» и сам же признал, что его сочинение «не представляет по существу ничего нового и лишь является попыткой изложить хорошо известные историкам факты…» В общем, это была хорошая компилятивная работа, полезная для начинающих востоковедов и для всех, кто недавно увлекся такой экзотической темой, то есть для людей вроде самого Савицкого.
Больше в евразийской деятельности Толль не участвовал, потому что вскоре получил место в Йельском университете, где и продолжал заниматься иранистикой, а не тюркологией. Уже после войны Савицкий с огорчением узнал, что Толль вообще оставил науку и занялся разведением кур.
Еще раньше Толля переехал в США Георгий Вернадский. Вопреки распространенному заблуждению Георгий Владимирович не принадлежал к собственно идеологам движения, хотя и печатался в евразийских сборниках, выпустил в евразийском издательстве свое «Начертание русской истории». Востоковедческой подготовки он тоже не имел, а до революции занимался преимущественно сюжетами, весьма далекими от евразийства. Его магистерская диссертация называлась так: «Русское масонство в царствование Екатерины II». Только во второй половине двадцатых Вернадский, правда, не зная необходимого для историка Центральной Азии китайского языка, все-таки взялся и за кочевниковедение. Но главные труды Георгия Вернадского, сделавшие ему имя в науке, вышли в США, когда от классического евразийства остались одни воспоминания. Связь его многотомной «History of Russia» с евразийством довольно слаба.
Как ни странно, даже критики евразийства редко обращают внимание на одно весьма примечательное обстоятельство: любовь евразийцев к тюркам и монголам была заочной и, так сказать, платонической. Русские и польские (тот же Петр Петрович Сувчинский) аристократы, чье детство проходило с немецкими боннами и французскими гувернантками в родовых имениях и богатых особняках, — что знали они о монгольских аймаках и киргизских аилах? Где могли наблюдать трогательное славяно-тюркское единство? Мало кто из них видел в жизни живого монгола или казаха. Их знакомство с евразийскими народами обычно исчерпывалось знакомством с дворникомтатарином. Савицкий, возможно, встречал калмыков в Гражданскую войну (в одной статье Савицкого есть на это намек), но ни времени, ни возможности заниматься этнографическими исследованиями у него тогда не было. Годы Гражданской войны Савицкий провел в основном за границей, в Париже, где служил представителем А.И.Деникина. Не зря отец Георгий Флоровский, сам бывший евразиец, обратил внимание на прекраснодушное невежество своих бывших товарищей и посоветовал им изучить хотя бы печальную историю православных миссий в «евразийском» мире, прежде чем судить о евразийском единстве.
Евразийцы, не знавшие толком ни Азии, ни Евразии, между прочим, и не стремились поближе познакомиться с киргизами, монголами и татарами. Даже Николай Трубецкой, больше других хваливший Чингисхана и его преемников, предпочитал жить не в Урге или Кашгаре, а в прекрасной Вене, куда он перебрался уже в 1922 году. Карсавин жил во Франции, потом в Литве.
«Я – большой "обличитель" Запада; смею думать, знаю его, но "не приемлю"», — признавался Савицкий Гумилеву. Латиницу – и ту Савицкий называл «нечестивой», английский язык – «тарабарским языком».
Тем не менее не принимавший Запада Савицкий почти всю жизнь прожил именно на Западе, хотя однажды Петру Николаевичу представилась возможность побывать на просторах Евразии. Много лет он провел в мордовском Дубравлаге. Вскоре после смерти Сталина Савицкий вышел на свободу и вернулся в Прагу. Он много ездил по нелюбимой Европе, но никогда не стремился попасть в любимую Азию. Классическое евразийство могло быть и пражским, и парижским, и венским, и даже эстонским, но только не монгольским, не уйгурским, вообще не азиатским.
Дело евразийцев было обречено и по другой причине. Евразийцы оставались людьми православными, некоторые из них – глубоко верующими. Основу духовной жизни они видели только в православии, но большинство степных народов, столь любезных сердцам евразийцев, исповедовали ислам или буддизм. К этим религиям евразийцы относились пренебрежительно или прямо враждебно. В их глазах догматика ислама была «бедной, плоской и банальной; мораль – грубой и элементарной». К буддизму относились еще хуже: его прямо считали разновидностью язычества. Николай Трубецкой, посвятивший восточным религиям специальную статью, назвал буддизм проповедью «духовного самоубийства», в которой видна «печать сатаны». Индуизм внушал Трубецкому не меньшее отвращение, потому что ведические боги слишком уж смахивали на бесов.
Горячая религиозность, которую недоброжелатель непременно назвал бы фанатизмом, евразийцам немало повредила. Духовным антагонистом православия для них был даже не коммунизм, а католицизм. Противоборство с ним казалось столь важным, что один из первых евразийских сборников «Россия и латинство» был посвящен этой теме. Специально для борьбы с латинством пригласили Льва Карсавина, человека эрудированного и весьма искушенного в богословии, религиозной философии, истории христианства: «Все недостатки Карсавина я очень хорошо знаю. Но знаю и то, что в будущем придется еще страшно бороться с латинством. И в этом отношении он ни с кем не сравним… Я думаю привлечь Карсавина только как спеца…» – писал Сувчинский Трубецкому. Уже к середине двадцатых Карсавин стал душой знаменитого евразийского семинара в Клама ре, пригороде Парижа, где сформировался один из важнейших центров евразийства.
Но и другие евразийцы вносили свою лепту в дело борьбы с фантомом католической опасности. Савицкий сравнивал католицизм с большевизмом, причем не в пользу первого: жертвы большевиков погибают, но спасают душу, католики же ведут человека к духовной гибели, «от Истины полной к извращению Истины, от Церкви Христовой к сообществу, предавшему начала церковные в жертву человеческой гордыне». Сувчинский опасался, что католичество вновь, как в Смутное время, попытается «овладеть русским народом». На каких облаках они жили?
Страстная вера привела к политической слепоте. Вот уж кому в двадцатые годы было не до экспансии, так это католикам. Римский папа со времен объединения Италии жил в своем Ватиканском дворце на птичьих правах. Только в 1929 году Муссолини заключит с папой конкордат и позволит ему воссоздать крошечное государство в центре Рима. Во Франции все левые партии, от радикалов до коммунистов, отличались бешеной ненавистью к католической церкви: «гадину» давили при всяком удобном случае. Они уже добились отделения церкви от государства, вытеснив религию в частную жизнь. Отсталая Испания, скованная диктатурой Примо де Риверы, стояла на пороге жесточайших гонений на церковь, которые начнутся, как только к власти придет Народный фронт. В такой обстановке католицизму было явно не до религиозных войн с православием. Удар евразийцев пришелся в пустоту.