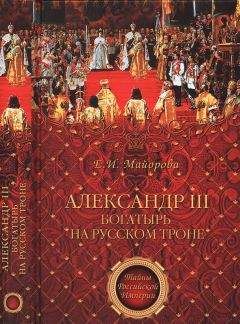В столице император был встречен бурей восторженных криков как осуществитель всех честолюбивых мечтаний, всех упований святой православной Руси.
При этой встрече все были потрясены тем, что государь изменился почти до неузнаваемости. Один из очевидцев так отмечал общее впечатление: «Когда царь уезжал на войну, это был высокий и красивый военный, несколько склонный к полноте. Он вернулся дряблым, с померкшими глазами, согбенным и таким худым, что казалось, его кости обтянуты кожей. В несколько месяцев он превратился в старика».
По возвращении Александра II в Петербург возобновились его ежедневные свидания с Екатериной Долгорукой. Испытания Балканской войны не только изнурили императора физически, но и оставили глубокий след в душе. Потребность в ласке и участии, бывшая всегда одной из основных черт его характера, еще более обострилась: он все сильнее привязывался к княжне. Она сделалась ему до того необходимой, что он решил поселить ее с детьми в Зимнем дворце, под одной крышей с императрицей. Отведенные ей покои находились над комнатами императора, смежными с комнатами жены, и были соединены с ними подъемной машиной. При этом забыли или не приняли во внимание, что три комнаты возлюбленной располагались как раз над покоями императрицы. Так что фаворитка и ее дети буквально ходили по голове покинутой супруги.
Императрица Мария Александровна вскоре узнала о навязанном ей соседстве. Без слова упрека встретила она это новое испытание. Терзаемая горем, снедаемая тяжким недугом, чувствуя приближение смерти, императрица сохранила свое достоинство. Она стала лишь еще более замкнутой и нелюдимой.
Но на придворных балах она обязана была появляться по протоколу. Современник так описывал ее: «Стройная, худая, вся усыпанная бриллиантами, с прическою в мелких завитках, она показывалась как бы нехотя, была любезна, говорила умные речи, вглядывалась пристально проницательным взглядом; всегда сдержанная, она скорее недоговаривала, чем говорила лишнее. Она как бы исполняла обязанность, и когда говорила, можно было подумать, что она хочет сказать: “Видите, я говорю с вами, потому что это принято, это мой долг, но до вас мне нет никакого дела, у меня своя внутренняя жизнь, доступная избранным, все остальное — служба, долг, скука”… Чувствуется, что в ней было что-то роковое и для других, и для себя».
Императрица казалась больной, остальные члены семьи вели себя натянуто, а царь любовался грациозными движениями танцующей возлюбленной.
Окружающие видели Александра II, «высокого, худого, с подстриженными бакенбардами, со строгим лицом, но добрыми глазами, с постоянным выражением затаенной тревоги», и его жену, «бледную, изможденную женщину с восковым лицом и прекрасными тонкими руками». Придворные гадали: что же будет?
Ситуация усугубилась, когда княжна 9 сентября 1878 года родила еще одну дочь, названную Екатериной. До императрицы доходили звуки, сопутствующие появлению на свет нового человека, звучали тревожные и радостные голоса, а вокруг нее царила тишина — почти гробовая.
А. Ф. Тютчева негодовала больше, нежели сама императрица: «Абсолютно бесхарактерная, она явно не создана для той роли, которую уготовила ей судьба. Ей приходится все время делать над собой усилие, и поэтому она находится в постоянном нервном напряжении. Это отнимает у нее последние силы, вследствие чего она очень пассивна. Кто она — святая или кусок дерева?» Энергичная Анна Федоровна, конечно, не потерпела бы такого положения вещей; но ведь все люди разные. Она не понимала главного: императрица боролась для своих детей, для своего «солнечного лучика» и, возможно, для другого мальчика, чей отец покоился под сводами Петропавловского собора. Для них она жила и дышала остатками своих легких.
С. Д. Шереметев отмечал, что в последние годы Мария Александровна была особенно холодна и молчалива с супругом. А когда оставалась с сыновьями или фрейлинами, а также с поэтами-поклонниками, то преображалась, становилась веселой и приветливой. Муж старался избегать ее, вечно недомогающую, старую женщину, живой укор его жизнелюбию. Он общался с ней теперь главным образом письменно, в телеграфном стиле: «Благополучно прибыл в Москву, где теперь 14 градусов мороза. Огорчен, что ты все в том же состоянии. Чувствую себя хорошо и неутомленным. Нежно целую. Александр».
Вслед за государем ее оставило большинство придворных. Впрочем, существовала и партия императрицы, противостоящая выскочке Долгорукой, паладины заведомо проигранного дела. Было очевидно, что Мария Александровна умирает. Многие придворные именно угасающую императрицу считали опорой царской семьи и всей России. Партии не хватало главы: наследник не хотел даже в этом семейном деле выступать против отца открыто. Это было и исполнение желания матери, учившей детей терпению, и собственная почтительная преданность отцу и императору. Глубоко переживая трагедию больной, униженной в своем женском достоинстве матери, цесаревич в душе сурово осуждал отца. Ни за что он не доставит своей жене таких страданий.
Императрицу поддерживало внимание старшего сына, его непоказная нежность, предупредительность ко всем ее скромным желаниям, даже не высказанным. Просветленным взглядом умирающей она, наконец, разглядела, что брутальная оболочка былинного богатыря скрывает душу, способную на сопереживание и деятельное сочувствие. Шереметев в своих мемуарах писал: «Нужно было много лет, чтобы Мария Александровна поняла, что такое ее второй сын».
Позиция наследника определяла поведение остальных членов дома. Дети не оставляли мать в ее горьком забвении и втайне негодовали. Для них было очевидно намерение отца дождаться смерти матери, чтобы обрести свободу действий, но они не подозревали о его желании жениться на фаворитке.
Однако вовсе не верно считать императрицу эдакой овечкой, покорно ждущей заклания. «Я знаю, — говорила она, — что никогда не поправлюсь, но я довольна тем, что имею и предпочитаю болезнь смерти». И много раз напоминала жене наследника: «Минни, вы должны жить в Зимнем дворце потом». Она хотела, чтобы ее сын занял подобающее ему место и не уступал его детям Долгорукой.
В конце августа 1879 года, истощенная до последней степени, Мария Александровна отдыхала в Киссингене, потом собиралась отправиться в Канн, где надеялась несколько восстановить свои силы. Пользуясь ее отсутствием, царь еще более открыто и свободно проводил время в Крыму с Долгорукой. Фаворитка жила не Бьюк-Сарае, как раньше, а в царском дворце, хотя ее пребывание там скрывалось.
Поездка в Канн оказалась последним вояжем императрицы. Когда она вернулась, все поразились тому, насколько плохо она выглядит. «Бледная, прозрачная, воздушная — в ней, казалось, не осталось ничего земного. Никто не мог без слез взглянуть на нее. Последним высшим усилием воли она пыталась превозмочь телесную немощь», — писала свидетельница последних дней Марии Александровны фрейлина А. А. Толстая. Она «сухо и долго кашляла. Ее смертельный недуг разрастался. Измученная болезнью, она чувствовала, что дни ее сочтены, но не хотела с этим мириться. Ее катали на кресле по комнатам, и несколько раз в день она вдыхала кислород посредством воздушных подушек для облегчения дыхания». Над ее головой раздавался топот маленьких ножек детей ее мужа и его молодой любовницы, а она знала, что обязана жить, чтобы сохранить трон для своих детей и внуков. Казалось, соседство соперницы должно ее убить, а ей оно только придавало силы сопротивляться.
Без лишних слов и огласки цесаревич организовал приезд в Россию сестры Марии, супруги английского принца Альфреда Эдинбургского. Она проводила с матерью много времени, читала ей Евангелие и жития святых. Сыновья постоянно навещали мать, стараясь развлечь ее забавными историями, порадовать маленькими сюрпризами. Но наследник старался, чтобы его заботы о матери не рассматривались обществом как вызов отцу. Несмотря на нравственное падение императора, цесаревич продолжал любить своего Па.
Пришла весна, наступила Пасха. Мария Александровна уже не выходила, но радовалась, что пережила зиму, строила планы на будущее. Она по очереди приглашала к себе своих близких, всем дарила подарки, не забывая ничего, что могло бы их порадовать. Царь приходил ежедневно, но на очень короткое время. Он готовился к переезду с новой семьей на летнее жительство в Царское Село. Все единодушно осуждали его за это, но императрица утверждала, что сама умоляла его уехать в Царское, ведь это так полезно для его здоровья. «Хорошо известный русский врач… говорил своим друзьям, что он, посторонний человек, был возмущен пренебрежением к императрице во время ее болезни. Придворные дамы, кроме двух статс-дам, глубоко преданных своей госпоже, покинули ее, и весь придворный мир, зная, что того требует сам император, заискивал перед Долгорукой».