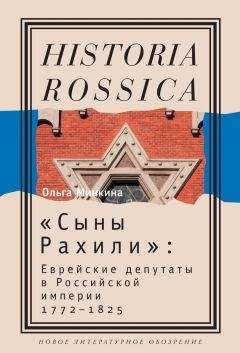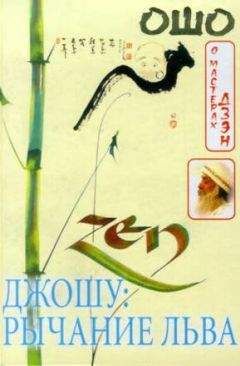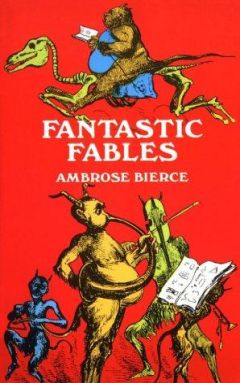Таким образом, одни положения указа (о суде, об участии в местном самоуправлении) были направлены на интеграцию евреев в российское общество, другие (закрепление за кагалом права распределения податей и выдачи «лицензий» на производство и продажу алкогольной продукции) должны были способствовать развитию еврейской автономии и укреплению власти кагалов. Еще одной целью указа была попытка урегулирования отношений между евреями и остальным населением.
Однако реализация указа на местах оставляла желать лучшего. В конце 1780-х гг. некий уполномоченный от белорусских евреев[260] подал прошение президенту Коммерц-коллегии А.Р. Воронцову, который, вероятно, произвел благоприятное впечатление на евреев во время упоминавшейся выше сенатской ревизии 1785 г. Анонимный проситель утверждал, что «избран целым обществом белорусских евреев»[261], и разоблачал произвол местного начальства. Наместник якобы подговаривал местных помещиков написать императрице прошение, «дабы в деревнях винокурение евреям запретить и что они там обижают крепостных»[262]. Данное обвинение в адрес евреев фигурировало во «мнениях», представленных губернскими магистратами и наместническими правлениями Сенату в 1785 г., и стало в дальнейшем традиционным. Далее следовали жалобы на весьма полное игнорирование указа 1786 г. местной администрацией. Хотя помещики позволили евреям «винокурить» в принадлежавших им местечках, в некоторых из них это приводило к неприятным эксцессам. В одном из таких местечек евреи построили винокуренный завод, «но капитан-исправник Шуражского [sic! правильно: Сурожского. – О. М.] уезда, услышав сие, прибежал в местечко Янович котлы проверять и, вылив из них, все запечатал и немалый чрез то причинил им убыток»[263]. Аналогичным образом поступил капитан-исправник в местечке Лиозне Бабиновичского уезда. Далее анонимный проситель сообщал, что, вопреки указу, компенсация за сломанные дома так и не была выплачена большинству потерпевших[264].
Другим недовольным реализацией указа оказался Цалка Файбишович. Полоцкое наместническое правление отказалось выдать причитающиеся ему деньги якобы из-за их отсутствия, а также по той причине, что Файбишович за все двенадцать лет, последовавшие с того времени, когда были снесены его дома и лавки, якобы никуда не обращался с жалобой. Поскольку определенный законом срок подачи жалобы «в причиненных обидах» составлял три года, Сенат полностью поддержал решение губернских властей в своем «определении» от 5 апреля 1788 г.[265] Файбишович обратился с прошением к самой императрице, красочно повествуя о своих бедствиях. За прошедшее с 1786 г. время к убыткам от потери недвижимости прибавились новые неприятности: затонуло судно с его товарами. Рисуемую Файбишовичем далее печальную картину следует, вероятно, воспринимать как риторическую условность: «Угнетаем будучи совершенною бедностию, не имею почти ежедневного пропитания со своим семейством»[266]. Альтернативные источники свидетельствуют, что на тот момент он был одним из глав витебского кагала и вел успешную коммерческую деятельность[267]. 27 сентября 1788 г. Екатерина II лично распорядилась выплатить Файбишовичу из витебского городского бюджета пять тысяч талеров (около шести тысяч рублей)[268]. В 1789 г. Файбишович упоминается в числе одного из трех старшин витебского кагала. С согласия ста «значнейших» витебского кагала Файбишович и его «коллеги» отдали коробочный сбор на откуп восьми еврейским купцам, в числе которых был упоминавшийся выше Литман Беркович[269], и, таким образом, по выражению Д.З. Фельдмана, «справедливость вроде бы восторжествовала»[270].
Поверенные и московский конфликт 1790–1791 гг.
13 февраля 1790 г. городской голова Москвы М. Губин и пять московских купцов первой гильдии подали прошение губернатору П.Д. Еропкину. Просители сообщали, что в Москве появилось «жидов число весьма немалое», и обвиняли нескольких евреев, которые, скрыв свое происхождение, записались в оклад московского купечества. Их также обвиняли в «порче» золотой и серебряной монеты. Опираясь на «приговор» уполномочившего их собрания московских именитых граждан и купцов всех трех гильдий от 25 января 1790 г., купцы просили высылки всех евреев из города[271].
Способы, к которым прибегли проживавшие в Москве евреи для защиты своих интересов, отличались разнообразием. Глава торгового дома Менделя в Москве Михель Гирш Мендель из Кенигсберга в своем прошении П.Д. Еропкину 19 февраля 1790 г. заявлял: «…Вышеупомянутые клеветы и нарекания до меня не касаются, и я не имел бы причины сим моим прошением отяготить Ваше высокопревосходительство, если бы сказанное купеческое общество не упомянуло о кенигсбергском евреянине, которым именованием оно меня означило»[272]. Таким образом, Мендель выстраивал свою индивидуальную защиту, подчеркнуто дистанцируясь от оказавшихся в аналогичной ситуации соплеменников, «ибо у каждого народа находятся люди предосудительных поведений, но таковые их поведения не могут бесчестья нанести на целую нацию»[273].
Еврейские купцы из Белоруссии придерживались другой стратегии и подали прошение от имени «всех евреев Белорусского купеческого общества» сменившему Еропкина на посту московского губернатора А.А. Прозоровскому. Выразителями воли «общества» оказались купцы первой гильдии Есель Гирш Янкелевич, Гирш Израилевич, Израиль Гиршевич, Израиль Шевтелевич, Хаим Файбешевич и Лейба Масеевич. Они сочли нужным указать на «природные добродетели и отменные качества», «благородный образ мыслей и свету известное человеколюбие и великодушие» своего адресата и даже воззвать к «чувствительности жалостного сердца Вашего сиятельства»[274]. Далее просители старались опровергнуть обвинения своих конкурентов. Особенно же их возмущало то обстоятельство, что, несмотря на то, что евреи фигурировали в законодательных актах как «евреи», московские купцы «в поругание» называли их «жидами». Для защиты своей «невинности и обнажения истины» евреи ссылались на указы императрицы. Благоволение к ним Екатерины II, по их мнению, доказывало и то, что во время ее знаменитого путешествия 1787 г. среди встречавших ее горожан находились и представители еврейского купечества и мещанства, которые «удостоены были… быть везде представленными и допущены даже к целованию освященнейшей ея императорского величества руки»[275]: очень важный по тем временам знак внимания, косвенно указывавший на статус «допущенных». К этой же поездке относится следующий любопытный эпизод: во время посещения Екатериной II Шклова к ней обратились «депутаты» от 10 еврейских общин с прошением, чтобы в официальных документах их не называли «жидами», а применяли бы термин «евреи». Императрица якобы издала соответствующее постановление[276]. Следует отметить, что в те времена слово «жид» еще не имело позднейшего уничижительного оттенка, и просьба шкловских евреев, равно как и возмущение проживавших в Москве еврейских купцов, была связана с демонстрацией лояльности новой российской власти: перейдя в российское подданство, они больше не желали называться польским словом «żydy»[277].
Возвращаясь к прошению представителей «белорусского еврейского общества» в Москве, следует отметить некоторые особенности используемой ими риторики и аргументации. Так, обвинение в сокрытии своего происхождения они парировали тем, что при всем своем желании не смогли бы это сделать, ибо «бороды, одеяние и самые имена наши ощутительно доказывают каждому наш род и закон»[278]. Таков был визуальный код «другого» в представлении самих носителей этого кода. Примечательно, что фигурирующая на первом месте в списке отличительных признаков еврея борода была также «принадлежностью» русского купечества и мещанства – сословий, к которым формально были приписаны евреи. Тем не менее она выступает здесь в роли отличительного признака еврея. Просители старались доказать, что различие между евреем и христианином чисто внешнее, не затрагивающее мировоззрения и этических установок: «Святой наш закон и предание суть явны и всему свету известны, яко они основаны на любви к Богу и ближнему». «Евреин, равномерно, как и христианин, не может без угрызения совести погрешить против правил чести и общежитейских узаконениев»[279]. Таким образом, вызванное к жизни чисто экономическими обстоятельствами прошение выходит за узкие рамки частного вопроса о торгующих в Москве евреях и становится призывом к веротерпимости и равноправию. Высказанные еврейскими просителями взгляды на религию сходны с воззрениями самой Екатерины II, видевшей в любом вероисповедании ценный фактор сохранения порядка в обществе и поддержания общественной и личной нравственности[280]. Также бросается в глаза щепетильность авторов прошения к вопросам чести: московские купцы своими действиями против евреев оскорбляли «себе равных граждан», «непростительно господину Губину с товарищами так смело и решительно сказать, что евреи имеют нравы развращенные»[281]. Несмотря на то что авторы прошения – купцы, морально-этические доводы в их прошении преобладают над чисто практическими аргументами в защиту дальнейшего пребывания евреев в Москве. Прошение снабжено, как сообщает публикатор, «шестью подписями на еврейском языке»[282]. Подписи не воспроизводятся, однако из самого этого факта можно сделать вывод о том, что еврейские купцы являлись не авторами, а только «заказчиками» прошения. Привычка подписываться еврейскими буквами свидетельствует также о крайне низкой степени интеграции торговавших уже несколько лет в Москве евреев в российское общество.