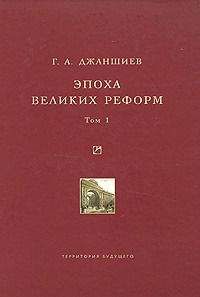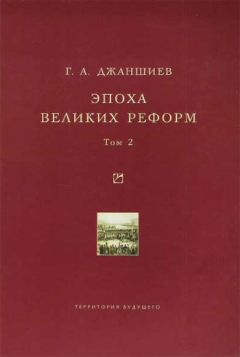И вот, когда наступила благодатная пора освобождения и обновления России, этот усталый боец и бессменный знаменосец свободы и человечности сходит с арены, как старый рыцарь любимой его поэмы Rosenkranz, не получив заслуженной награды, но оплаканный горячими, искренними слезами, о которых могут дать понятие следующие строки дневника профессора и цензора Никитенко: «Боже мой, какое горе, – писал Никитенко 7 октября 1855 г., – какая потеря для науки, для мысли, для всего высокого и прекрасного: Грановский умер! Это был в нашем ученом сословии человек, которого можно было уважать, в правоту ума и сердца которого можно было верить безусловно; он был чист, как луч солнца, от всякой скверны нашей общественности. Это был Баярд мысли, рыцарь без страха и упрека»[79]…
Под таким лучезарным ореолом перейдет и в историю имя этого благородного, но опального вдохновителя нескольких поколений студентов, этого истинного патриота-наставника, воспитавшего тех гуманных деятелей преобразовательной эпохи, появление коих в 60-х гг. на общественной сцене было столь же неожиданным, сколько и отрадным явлением. Суд истории воздаст должное за те многочисленные страдания, огорчения, козни против Грановского, на которые были так щедры отравившие ему жизнь и сведшие его в преждевременную могилу тупые «самобытники», а также закоснелые враги русского просвещения[80], так долго и неумолимо гнавшие:
Его свободный, чудный дар.
В реальность суда истории глубоко верил Грановский. «В возможности такого суда, как писал автор Аббата Сугерия, есть нечто глубоко утешительное; мысль о нем дает усталой душе новые силы для спора с жизнию».
В наше время надобно мертвых ставить на ноги, чтобы напугать и усовестить живую наглость и отучить от нее ротозеев, которые ей дивятся с коленопреклонением.
Кн. П. А. Вяземский
Есть имена, которые следует произносить не иначе, как с непокрытою головой. Есть писатели, жизнь и творения коих так чисты и возвышенны, так благородны и назидательны, что чем ближе с ними знакомишься, тем более проникаешься к ним уважением, удивлением, почти благоговением. К числу таких немногих дорогих для всякого мыслящего человека светлых, скажем больше, святых имен принадлежит и имя Виссариона Белинского, этого недоучившегося студента Московского университета, впоследствии ставшего не только великим судьею для русских писателей, но и авторитетным руководителем их, образцом бестрепетного гражданского служения своему народу и «властителем дум» нескольких поколений, в том числе того, которое двигало эпоху великих реформ.
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Дозволь смиренно преклонить колени!
гласит некрасовский стих.
Много нужно было, чтобы у сдержанной «музы мести и печали» вырвать такие пламенные строки беспредельного благоговения, и только один Белинский мог так растрогать самого сдержанного сына «сдержанного племени»…
Не только исчерпать, но и затронуть невозможно в отмежеванное мне время все стороны нравственного воздействия Белинского на русское общество. Я имею в виду только отметить в двух-трех словах значение «учительства» его для эпохи великих реформ.
И друзья, и враги отдают справедливость необыкновенной искренности Белинского, его отзывчивости и пламенному увлечению предметами своего мышления и поклонения. Когда во время одного из бесконечных споров «взалкал» доведенный до изнеможения Тургенев, Белинский с нескрываемою гадливостью к его слабостям воскликнул: «Мы еще не решили вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть»[81]. Человек такого темперамента, такого алчущего правды сердца не мог одеться в броню высокомерного равнодушия по отношению к практическим вопросам жизни, не мог предаваться самодовольному квиетизму философствующих Панглоссов. Даже в период наибольшего увлечения гегельянством, однажды и навсегда давшим верховную санкцию всем существующим безобразиям, Белинский не вполне поддался гипнозу его всеоправдывающей философии. Одно существование крепостного права вбивало такой всесокрушающий клин в гегелевскую формулу «все обстоит благополучно», что умы – наименее наклонные к анализу и скептицизму, невольно задумывались над окружающею действительностью. С переездом в Петербург[82], где и жизнь, и мысль общественная, как видно из переписки Белинского с невестой, были менее скованы путами старых предрассудков и гегельянскою барскою кружковщиной, под высокопарными кунстштюками метафизической диалектики, утратившей смысл жизни и понимание ее потребностей – Белинский все глубже и глубже стал вдумываться в окружающую действительность.
Он скоро прозрел и, не умея ничего делать наполовину, с мужественною решимостью предал анафеме то, чему только что поклонялся всем сердцем. Нужно читать его письма этого периода (начало сороковых годов), чтобы видеть охватившее его, словно Фауста после вызова духа земли, бурное преклонение пред требованиями земли, данного времени, отдельной личности, которым он теперь обуреваем.
В одном из обширных своих писем-трактатов так разъясняет он, с обычною своею страстностью и рельефностью, В. П. Боткину сущность современного своего настроения и происшедшего переворота:
«Ты будешь надо мною смеяться; но смейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира… Мне говорят: развивай все сокровище своего духа для свободного самонаслаждения духом, а споткнешься, падай, черт с тобою, – таковский и был с… Благодарю покорно, Егор Федорович (Гегель) – кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братий по крови. Говорят, что дисгармония – это условие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но никак не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии».
Нужна была именно такая безграничная любовь к ближнему такая пламенная вера в «звание человека», в достоинство личности, чтобы сколько-нибудь расшевелить умы и сердца в стране, про которую Пушкин писал:
Здесь барство дикое, без чувства, без закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельцев,
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе писать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея.
Скорбь об этом отвратительном недуге старого русского строя еще со студенческой скамьи не давала покоя Белинскому Еще в юношеской своей драме «Калинин», аттестованной московскою цензурой «бесчестною и позорящею университет», он дал свою Аннибалову клятву бороться изо всех сил с рабством народа. И он остался верен своей клятве почти до последнего вздоха.
С замиранием сердца он следил за неоднократно возникавшими, но бесплодными попытками Николая 1 возвратить воровски похищенную, по его собственной характеристике, у народа свободу, и со всею отвагой своего мощного слова и «великого сердца» он накидывался на всякого, кто бы он ни был, раз он выступал защитником рабства народа. Ради горячо любимого народа он даже не остановился пред тем, чтобы развенчать и разбить свой кумир – Гоголя, когда тот выступил в «Переписке» поборником крепостного права. – «Неумытое рыло» – этого выражения не мог Белинский простить даже своему любимцу, своему детищу – Гоголю. Высоко ценя его, еще выше он ставил свободу русского народа. В знаменитом письме 1847 г. (из Зальцбрунна), написанном, по выражению Берне, «кровью сердца и соком нервов», Белинский ставит на вид Гоголю: «Вместо того чтобы учить, во имя Христа и церкви, варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами, вы написали бы ему, что так как его крестьяне – его братья во Христе и как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать ему свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться трудами крестьян как можно льготнее для них, сознавая себя в ложном отношении к их положению. А выражение: „ах ты неумытое рыло!“… Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру, как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим барам, себя не считают за людей… Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездной!.. Христа-то зачем примешали тут! Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства, и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения».