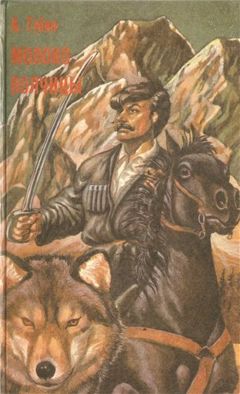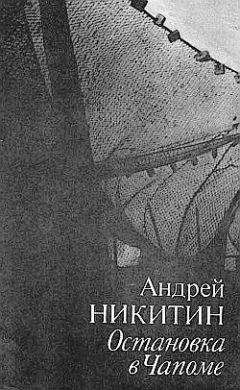А бабка Дрючиха все побиралась на паперти, стояла с длинной рукой, ходила в рубище, печку не топила, с родней не зналась. Как-то огласила на сходке, что у нее деньжонки небольшие прикоплены и она отпишет их тому, кто докормит и доглядит ее. Охотников не находилось. С жилистой шеей, аспидно-черными глазами, словно вырезанная из темного дерева, она походила на бабу-ягу. Дед Иван Тристан говаривал, что в старину была она красавицей, офицерам глаза строила, и сам он, грешным делом, ухлестывал за ней на посиделках. Однажды нашли ее по первому снегу холодной. Лежала у порога, и, как на ведьме, сидел на ней желтый кочет — все ее хозяйство. Внучка Нюська отказалась хоронить бабку, и похоронили за счет казны. Хатенку Дрючихи подозревали как обиталище нечистой силы — Есаулова Прасковья Харитоновна видала, как в хате плясали русалки. Правление решило снести вертеп на камень, буде на него желающие.
С того дня разбогател мирошник Аксен Пигунов, мужик. Ломая хату, нашел он кошель телячьей кожи с древними золотыми монетами. Долго не мог подступиться к нему. Лежала на кошеле диковинно длинная змея. Пока искали вилы, чтобы пропороть гадину, она уползла в камни.
Все бы ничего, да женился Аксен не по чину — взял казачку Глашку из сурового рода Луней. Один брат Глашки промышлял разбоем на море, другой, Анисим Лунь, смолоду жестоко пророчил нашей станице гибель и опустение. Ко всему, пухломордая Глашка путалась с соседским парнем Степкой Глуховым. Муж давно мешал им. Понятно, и на золото точили зубы. Да и кто он, муж? Мужик! А тут спокон веку казачья земля, чертов лапотник!
В успенье натопила Глафира баню. Позвала и Степку попариться. Мужчины хлещутся вениками, а баба пару поддает. Низенькая саманная банька стояла в задах, с крошечным слюдяным оконцем, скрытая лебедой и сурепкой. От булыжной каменки жар — не продохнуть, не взмахнуть рукой. Сладко кружится голова от кизилового духа веников.
Глашка внесла цибарку ключевой воды, переглянулась с любовником. Муж блаженно закрыл глаза, растянувшись на скользкой полке. Серебряный крестик мерно вздымался на дряблом розовом пузе мельника. Степка мылил Аксену ноги, Глашка голову.
— Тьфу, окаянная! — заорал Аксен. — Глаза намылила…
Тут и саданул его Степка железной кочергой по темени. Дернулся Аксен и захлебнулся в кипятке — в котел головой сунули…
Стемнело. Глашка замыла кровь. Конь Глухова стоял за баней оседланный. Положил Степка мокрый мешок на седло и поскакал. Остановился в Чугуевой балке. Глухо пели сверчки — хор крошечных певчих по убиенному. Темная лесная гора закрывала полнеба. Шашкой Степка рыл яму. Тревожно ржал конь. Глухов ласкал его, бил, завязывал поводьями рот. Конь бесился. И бросил казак мешок в стеклянно светлую речку.
Соседям Глашка сказала, что Аксен с вечера напился, избил ее и ушел в лес за калиной. А через неделю охотник дядя Исай нашел мешок с человечиной в Долине Очарования — так называли балку господа. Мать Аксена опознала крестильный крестик сына. Дед Иван Тристан видел, как Глухов скакал с мешком. Что Глашка и Степка путались, знали все.
В то утро осталась некормленой скотина, не топили печи. Станица вышла содомом на выгон. Плетями погнали Глафиру в лес за останками мужа. На ходу измывались над ней как хотели. Пуще других лютовали бабы и особенно казачата, еще не знающие о любви. Они рвали ей кожу на толстых грудях, били держаками и деревянными шашками в стыдное место.
Полумертвая, доползла Глафира до балки. Помочилась кровью. Стала собирать мужа, рвет листья, чтобы не пачкать рук о трупную падаль. Пуще взъярилась толпа. А когда натешились все, вжикнула шашка гвардейца Архипа Гарцева — и голова убийцы скатилась к зловонному черному мешку.
— Добре! — сказал подъехавший атаман. — Бросить собаку тут, а мужика похоронить в станице.
Маленькое голубиное сердце Маруськи Синенкиной, бегущей в толпе детей за Глашкой, билось порывисто и больно. Впервые девочка видела так близко кровавое преступление и страшное возмездие. От ужаса она не могла слова выговорить. Теперь она знала, что люди убивают друг друга, как звери в диком лесу.
Глухов сбежал за Каспий и, по слухам, стал татарином.
А деньгами завладел брат Аксена, Трофим Пигунов. Он стал и хозяином мельницы. Держался ближе к казакам и на мельнице казака пропускал раньше мужика.
Мельница — вторая неофициальная сходка. Тут по вечерам собирались старики и под мирный рокот, в хлебном запахе зерна, перебирали в памяти былую жизнь.
По вечерам, когда ветра зари полотна дожигают,
коровы важные шагают, в поля ушедшие с утра.
Идут-спешат издалека, молочным солнцем налитые,
и дышат паром молока, теряя капли золотые.
Собаки брешут у отар. Звенит бугай тяжелой цепью.
А сумрак полчищем татар крадется к хатам сонной степью.
Уже мелькнули у реки влюбленных воровские тени.
С остывших глиняных сидений ползут на печи старики,
надежно затоптав цигарки. Давно закончен овцам счет.
А молоко еще сечет железо звонкое цибарки.
Дед-нянька спать поутолок внучат и сам улегся с ними.
А буйно радостный телок бодает выжатое вымя.
Дубравы погрузились в сон. Тревожно на путях окольных.
Утих на дальних колокольнях вечерний заунывный звон.
Ползут туманы по долинам. Страшнеют в балочках лески.
А боевые казаки в чихирне собрались старинной.
Капусты квашеной кочан да мера слив иль груш моченых.
И посередке винный чан. Под каждым табурет — бочонок.
Вздыхали, пили и крестились. И плыл в ночном дыму кабак.
И поздно ночью расходились по лужинам под брех собак.
Меланхолично звезды иглы роняли светлые во тьму —
на жизнь, к которой все привыкли, как привыкает бык к ярму.
Грустя о времени ином, тут поминают ветераны,
когда Подкумок тек вином и плыли киселем лиманы.
А ныне стыдно и темно становится на белом свете.
И путало иных вино в шелка блестящей лунной сети.
Ползли домой, как пластуны, и носом попадали в лужи
прославленные хвастуны и мастера владеть оружьем.
Кто потерял портки, ножны, кто без сомнений добирался
до сонно дышащей жены и истово с ней целовался.
И храпом выпугав друг друга, вот спят в обнимку два супруга.
Иной буянит — не до сна. А тот лишь вживе воротился,
так борщ хлебал из казана, что медный крест на пузе бился.
Ночь. Баба выскочит на миг. В садах рокочет сыроварня.
Да пронесется шалый вскрик неуходившегося парня.
Был праздник. Густой масленый звон над станицей. Перьями гигантской птицы плыли светлые облака. В ярких сатиновых обновах торопится в церковь молодежь, чтобы скорей отстоять положенное и идти на игрище. Сурово, осуждающе смотрят на молодых старухи — им осталось лишь злобно молиться богу да греметь чугунами в печи.
Глеб тоже отстоял раннюю обедню. Карим глазом косил на луженое блюдо церковного старосты. На блюдо мелким дождиком сыпались копейки, алтыны, пятаки и гривенники — по грехам дающего. «Это что, — думал казак, — как кто в старосты пролезет, рожу наедает, ровно кабан, хату новую строит под железом, конями и фургонами заводится. И ведь не держат долго, чтобы душу не сгубил!» Из церкви пошел на мельницу, не терпелось новый жернов в работе проверить.
Мельница — длинный сарай. Одна сторона в реке, будто баржа. Внутри отсеки. В одном плещется огромное дубовое колесо с корытчатыми лопастями. В другом натужно гудят каменные жернова. Из третьего по деревянному рукаву течет зерно. В четвертый сыплется мука на сито, тут отбиваются отруби, идущие в пятый отсек. Самый большой — приемный, с весами и закромами. Окна в крыше затянуло мукой и паутиной, полутемно. Вода на колесо идет по тенистой Канаве, зеркально-тихой, заросшей ивами и незабудками, от хворостяной запруды, сделанной выше по течению реки. Канава и река образуют гусиный остров с мягкой муравой, на которой станичные парни допоздна метали «орла», играя на деньги. В речку вода возвращается пенистым водопадом.
На мельнице с незапамятных времен ютился станичный песенник Афиноген Малахов. Барин Невзоров приглашал поэта жить к себе, в роскошный особняк на курсу, ибо любил казачьи песни. Афиноген отвечал, что для занятий поэзией ему вполне достаточно чердака мельницы и лунного плеса на реке. Черноволосый, стройный, быстрый старик все похвалялся вскочить в серебряное седло Эльбруса, а в ожидании этого часа сидел на Пьяном базаре с дружками былой славы. Он-то и выкопал в старину за пять лет Канаву. Он же и первую мельницу поставил. Но чудно: не любил помольцев. Больше сидел в деревянной каморке или над водой и играл на цимбале. Хата стояла на двух берегах Канавы, на древесных стволах, перекинутых через воду, Канава текла под полом хаты. Один угол каморки занимали иконы старинного письма, в другом кровать. На стенах винтовка, шашка, тульский пистолет. Окно одно, слуховое, с видом на реку, Предгорье и Белые горы. Попадал в него только лучший, утренний свет.