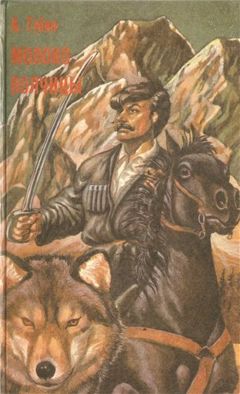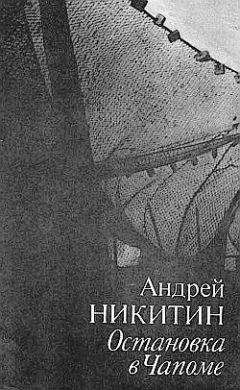— Обиделся? — с тревогой спросила.
— В лес пора, ступай.
— Я у Любы Марковой ночую.
— Проводи меня.
Во дворе кинулась к Марии длинная черная собака. Мария испуганно схватилась за Глеба. Глеб выдохнул звук, будто тушил лампу, и собака виновато скрылась. Запрягли быков, бросили в шаткую тележонку топор, цепь, бурку. Мягко положили на солому ружье. Мария ласково гладила теплые морды спокойных быков, грелась их дыханием, радовалась богатству любимого. Радостно ей — видела себя женой, провожающей мужа в лес. Страсть не хотелось расставаться. Поехала с ним до выгона, где собирались все лесорубы.
В речке остановились — пили быки. Глухо, по-ночному журчала вода в колесах. Плыл туманок над самой водой, что по грудь быкам-подросткам. За выгоном настороженные балочки, чем дальше, тем глубже, в тревожном сумраке.
Такими близкими никогда не были. На посиделках много игры: забав, признаний, а тут быки, телега, труд — нечто от семьи. Так бы и ехали вместе вечно.
В звездном пламени Белые горы — такими ничтожными кажутся беды и радости. Хочется Марии только любви, делать доброе, пригреть сирого, накормить голодного, ответить лаской на теплый взгляд.
Глеб посматривал на Синие горы — скоро ли заря. Томление, охватившее его, хотелось сбросить, как теплую, но тяжелую бурку. Вот ведь и старшие братья еще не женились, надо ли спешить ему?
В тишине, не слыша голосов, быки шли тише и тише. Остановились. Глеб потянулся к кнуту. Мария поймала его руку, поднесла к губам. Она лежала на соломе. Ему было неловко, что она целует его руку, обнял ее плечи и припал губами к ее губам. Она закрыла глаза. Отчаянно сопротивлялась. Глеб отступил. Тогда она притянула любимого к себе…
Долго молчали и не могли отдышаться от волнения. Она еще всхлипывала от наслаждения, потом поджала не умещающиеся в телеге ноги и беззвучно затряслась в горьком плаче — грех страшный, перед богом, родителями, Глебом — ведь не венчаны. Не зная, как утешить ее, он вытирал ей слезы, сказал:
— А знаешь, лежачи, ты не выше меня!
Она улыбнулась, обняла любимого, нежно и беззащитно припала к его тяжелым рукам, отдавая им себя.
— Мы с тобой ровные, это я на каблуках выше. Ничего, что я длинненькая?
В звездной темноте ее лицо прекрасно, большеглазое, крупного овала. Четок в небе породистый, арийский подбородок казака.
— Дурочка, ты у меня первая и последняя, век буду с тобой, и умирать вместе, возьму тебя на руки, уйдем в калиновую рощу и там схоронимся от людей, келью построим, царями лесными будем, а когда час придет, отпоют нас не попы, раз у нас вера разная, а листья и трава, а вместо свечек вот эти звездочки гореть будут…
Опять Глеб вышел раньше других. В некоторых хатах замелькали огоньки, но дорога пока пуста. Хороша бурка в предутренний холодок. Сладко пахнет солома. Глеб рассказывал Марии об электростанции за станицей, куда недавно возил с речки песок. Белый Уголь называется. Чудеса твои, господи! Вода, как на мельнице, колеса крутит — это понятно! А потом по проволоке огонь бежит за семь верст, и в господских домах лампы навроде груш горят без керосина и жира, да так ярко, что глаза выжечь могут. Лампы Мария видала, только в ум не возьмет, как же это огонь бежит по проволоке. Старики говорят: там в середке черти такие сидят и светят. По мнению Глеба, это брехня, там машины гудят, а как они делают огонь, то не понять никому.
Сказал, что телегу новую делать будет. Надо бы справлять и рессорную английскую коляску, фаэтон гонять на курсу. Не только полевым трудом жив человек. Вот он недавно купил на базаре телка и перепродал его мясникам с барышом, да еще потроха и шкура себе остались. А то вел коня поить. Под «шумом» барыня Невзорова рисовала. Конь играл, вставал в дыбки. Барыня попросила казака постоять, пока она их нарисует, дала за это рубль и пилить дрова на зиму пригласила — тоже заработок. А кто без денег, тот бездельник.
Донесся снизу тележный скрип колес.
— Пора! — шепнула счастливая девка, поправила косы, еще и еще поцеловала суженого и, унося мечту о лесной жизни вдвоем, серой качающейся тенью стала удаляться в сумрак полей, чтобы обойти скрипящие телеги.
Бежала полями угрюмо зашелестевшей кукурузы, чувствовала затылком восход карающей зари. Как посмотрит она ему же в глаза? Ох ты, ноченька темная! И от родных теперь навек отрезана стыдной тайной. Ее замуж выдавать собираются, а она вперед залетела. Как будет теперь она смеяться с отцом, возиться на сене с Федькой? А если мать или братец Антон почуют неладное? Крут братец Антон в делах семейной чести!
Ноги отказываются идти в станицу. Надо предупредить Любу, что она ночевала у нее. И утешала себя тем, что Глеб никогда не бросит ее, а Прасковья Харитоновна станет любить, как родную дочь.
Серая тень — неужели это человек с думами, сердцем? — растаяла. Может, сон снится Глебу? Тоскливо сжалось его сердце. Жаль Марусю, одна уходит, а там кобели страшенные, бывает и бешеная скотина. А проводить невозможно — быков не бросишь. Каждый в мире одинок. Каждый сам платит за грехи. Где он, тонкий стебелек уплывающего счастья? Слился с мраком кукурузных полей. Догнать, приголубить, обнадежить. Тут сами тронулись быки, услышав стук телег. Звякнул в передке топор. Напомнил о лесной работе.
День разгорался. Цоб-цобе!
Беспорядки в городах задержали полк, в котором служили Михей и Спиридон Есауловы. Лишь осенью бойцы мчались со службы — по желтым степям, мимо древних курганов, сбоку славной реки Кубани. Называясь терскими, казаки Пятигорья редко, случайно и далеко не все видели буйный Терек. В Кубани же часто поили коней, бывали у ее истоков в снегах Эльбруса и, хотя жили в пятидесяти верстах от двуглавого гиганта, выше снеговой линии не поднимались — дальше смерть, круча, небеса. На изобильной травами долине пасется стадо Синих гор. Конники пришпорили коней. Уже видны ландышевые и ореховые балки, где прошло их пастушье детство, качается трава на могилах дедов, где их заждались истосковавшиеся матери и жены.
Долго не ложились в этот вечер в станице — прошел слух, что сотня скачет домой. Все выглядали да поджидали. Нет, не видать, не слыхать. И поставили караул на въезде.
Служивые решили подшутить над станичниками, обдурили родных: не доехав трех верст, спешились и, как в засаду, ушли в камыши. Затею предложил Игнат Гетманцев, страстный охотник, для него и война — охота. Конечно, убить человека — не куропатку застрелить. Гетманцев любит брать языков, живых людей, и лучше всего чувствует себя в засаде. Смеющимся его не видели никогда. До службы так и пропадал в лесах, хотя имел жену, правда, бездетную. Лесной человек-одиночка, он в людской компании утешался картежной игрой, и играл так же отчаянно, как шел на медведя.
Против затеи Игната был атаманский сын Саван Гарцев, драчливый, увертливый крикун с вислым животом — явление у казаков редчайшее. Любитель поесть, настроенный эпикурейски и в самые драматические моменты, не расстающийся с фляжкой и куском и под пулями, он заслужил себе прозвище Окорок. Сейчас он спешил домой в чаянии сытного ужина. Спиридон Есаулов, хорунжий, шутник, весельчак, бабник, не унывающий в любой передряге, уговорил Гарцева. Поддержал брата и Михей, рубака, джигит, конелюб. Михея Саван уважает как сильного и ловкого наездника и отличного стрелка. Вел сотню со службы приставной, временный командир, и ему было все равно. В станице он примет новобранцев и поведет их на службу.
Вот уснула родная станица у гор. Переместились низкие созвездия. Ухает сова, да шумит на перекатах бурунами Подкумок, громко поет о старшей сестрице Кубани, о братце Тереке, о тетушке Куме.
В урочный час он напоит и обмоет в последнюю дорогу и меня, и тебя, мой друг.
Казачьи кони ободрились, заиграли, припали бархатными губами к заводям, долго пили, волнуясь от близости дома.
Как удальцы в набеге, казаки прокрались на площадь, обманув дозорных парнишек. Не звякнула шашка, не топнуло копыто: все замотали, заглушили. Двоих дотошных казачат, заметивших движение, Игнат Гетманцев взял в плен. Когда все собрались, Спиридон-песенник махнул рукой. И обрушился на спящие хатенки старинный плач.
Сине море без пролива
Разлилося широко…
Как встурмашился народ! Зачиркали кресала о кремни: вздувают жирники. Бегут на босу ногу встречать дорогих гостей. Крик, гам. А сотня стоит, как на картине, строем. Кони и всадники слиты, шестикрылые кентавры. Спиридон Есаулов с наигранной хрипотцой процеживает слова:
Два часа минут пятнадцать
Шел я морем хорошо…
И густо подхватывает сотня, всплеснув синими башлыками — волны и ветер:
Как вошел в Азовско море,
Стал корабль мой потопать…
Тоска, ревность, суета житейская — все отлетает. Торжественный обряд встречи не допускает суесловия, лишних чувств и объятий. Деды и отцы стоят в сторонке без удивления. Матери пали ниц, поцеловали ноги сыновьих коней после дальней дороги. После этого кони поступили на попечение младших братьев, а служивых чуть ли не на руках несут их чернобровые сестры и жены. Всплеснется и плач — со службы не все вернулись, иной уже пасет табуны и стоит на пикетах в горах господа. А в т о р о к а х е г о р у б а х у о д н о п о л ч а н н и к и в е з у т.