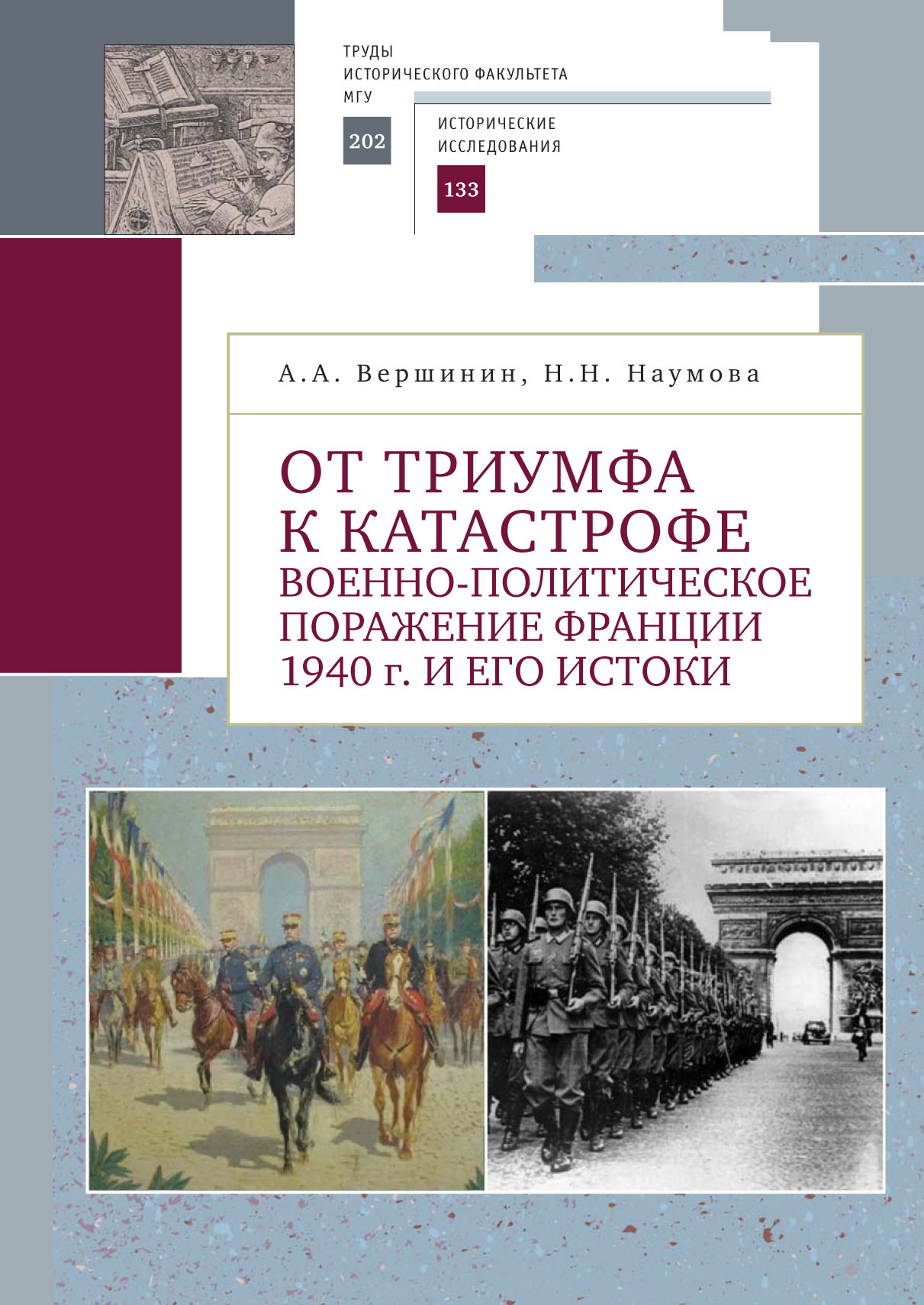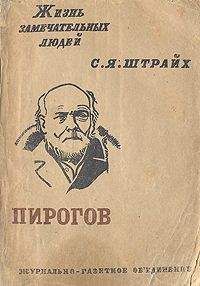априори пользовалась расположением левых» [1844]. Глава Виши «сумел вынести смертельный приговор республиканскому режиму, который реформаторы тридцатых годов намеревались изменить, но не радикально уничтожить» [1845]. Прозрение произошло слишком поздно: по словам С. Берстайна и П. Мильза, на следующий день после 10 июля некоторые парламентарии пожалели о своем голосовании, вдруг осознав, что «они открыли путь для антиреспубликанской диктатуры». И хотя заседания обеих палат были «просто» отложены на неопределенный срок (их упразднят только в июле 1942 г.), «монархический характер режима… ни у кого не вызывал сомнения» [1846]. По словам Р. Ремона, во Франции установился режим «личной монархической власти» [1847].
Кажутся интересными уже упоминавшиеся оценки и рассуждения о голосовании 10 июля французского политолога и правоведа Ф. Бюрдо [1848]. Ученый отмечает, что «коллективная отставка» парламентариев, «спорная с конституционной точки зрения», значительно расширила «поле и свободу деятельности исполнительной власти». В подобном «сложении с себя законодательных полномочий… в немалой степени проявилось малодушие» французских парламентариев. Отставка избавила их от ответственности проводить непопулярные мероприятия. Она показала также, что осознание парламентариями собственного политического бессилия в осуществлении требуемых реформ «заставило их отказаться от одной из фундаментальных прерогатив» – законодательной инициативы – под предлогом возможной «пробуксовки» режима и непредвиденных последствий.
По убеждению Бюрдо, поведение французских парламентариев намного ярче высветило пороки Третьей республики, чем «пассивное согласие общественного мнения с ее ниспровержением». Оно продемонстрировало серьезный травматизм от поражения и тот высокий кредит доверия, которым пользовался среди правых и левых депутатов «победитель Вердена». Отсутствие в этот «скорбный час» людей, от которых можно было бы ожидать «некоего порыва» (sursaut) – Даладье, Манделя, Зея, Мендес Франса, также негативно повлияло на исход голосования. Поэтому недостаточно говорить исключительно об интригах и политической ловкости Лаваля или об особенностях внутриполитической конъюнктуры, чтобы объяснить широкую поддержку сенаторов и депутатов «конституционной поправки, приведшей к смерти демократии». Их голосование – «собственное полное уничтожение» – явилось, считает Ф. Бюрдо, признанием своей вины – неспособности издавать законы, прибегая все чаще к использованию практики декретов-законов, распространенной во второй половине 1930-х гг. [1849]
Исчезновение Третьей республики, спровоцированное поражением и одобренное подавляющим большинством французской политической элиты, та легкость, с которой Лаваль сумел создать необходимую для гибели Республики политическую мизансцену, вызвали негодование тех, кого вскоре будут называть «сопротивленцами». О. Вьевьорка, изучавший историческую память участников движения Сопротивления, отмечал их возмущение поведением политиков в трагические недели лета 1940 г.: «Ни одно учреждение в силу представленных ему полномочий не призвало к сопротивлению в 1940 г… поэтому неудивительно, что участники Сопротивления единодушно осуждали сдачу позиций политическими элитами, которые должны были, исходя из любой логики, просветить общественное мнение и сформировать руководящий состав движения Сопротивления» [1850].
Резко отрицательную позицию по отношению к результатам голосования 10 июля заняла только одна политическая партия – коммунистическая, запрещенная 26 сентября 1939 г. после того, как она одобрила вступление советских войск в Польшу. В подпольно издаваемой газете «Юманите» ФКП опубликовала Манифест, в котором призвала создать «Фронт свободы, независимости и возрождения Франции» для борьбы с оккупантами и предателями – “вишистскими авантюристами”», «кучкой лакеев, готовых на любое грязное дело», «правительством изменников и лакеев» [1851]. Однако летом 1940 г. голос ФКП не смог громко прозвучать. По словам известного критика сталинского режима и деятельности французских коммунистов, одного из ведущих историков ХХ в. Ф. Фюре, «разворот советской политики в августе 1939 г., усугубленный [его – авт.] интерпретацией, навязанной [коммунистическим – авт.] партиям Коминтерном в сентябре», явился «ударом грома среди ясного неба для демократического общественного мнения» [1852].
Многие во Франции считали коммунистов предателями, и партия не пользовалась тем влиянием, которое она приобретет позже, став самой активной силой внутреннего движения Сопротивления гитлеровской оккупации и коллаборационистскому правительству Виши. В вышедшей через 20 лет после военного поражения Третьей республики и переведенной в СССР книге «Сын народа» М. Торез заклеймил «клику, выдавшую Францию Гитлеру», и «раболепствующий парламент» [1853]. Другой руководитель ФКП Ф. Гренье писал в своих мемуарах, что французский народ, «народ фабрик и полей, который так много раз за ее долгую историю спасал Францию», пришел в Сопротивление, ощущая себя «выданным врагу собственными элитами», не пожелавшими спасать Родину [1854].
Шок от военной катастрофы временно парализовал способность французских политиков к протестным действиям, принятию четких и выверенных решений. Традиционные буржуазно-парламентские принципы оказались подорванными. Третья республика, оплот западной демократии, не смогла даже в союзе с другим флагманом буржуазно-демократических идей, Великобританией, противостоять «нацистскому варвару». Внутри страны в результате неожиданного, а потому еще более болезненного военного поражения «политическая система стала саморазрушаться, и ускорение этому процессу придала ранее [в годы Народного фронта – авт.] вынужденная молчать правая. Так бесследно исчез режим, рожденный в условиях разгрома [Второй – авт.] Империи, и которому победа в 1918 г. позволила временно объединить робкую правую и идеологически многообразную левую» [1855].
Население роптало в поисках политического лидера, сильной и решительной личности, способной поднять Францию из «бездны национального унижения». Таким человеком летом 1940 г. многим представлялся маршал Петэн. По словам Ж. Жанненэ, именно его французы воспринимали «как спасательный круг», как представителя законной власти, восстановителя порядка и гаранта национальной идентичности. Но, справедливо указывает Ж.-П. Азема, это «почитание несло в себе двойное заблуждение». Люди, восторгавшиеся Петэном, «не были готовы видеть, как он поддерживает и осуществляет политику коллаборационизма Государства с Рейхом». Они ожидали от маршала, что он «положит конец кризису национальной идентичности и восстановит социальную ткань общества», но «при этом не испытывали большого желания принимать [его – авт.] культурную революцию» [1856]. Ту же мысль высказывает американский историк С. Хоффман. По его мнению, французы никак не могли согласиться с тем, что растиражированная Петэном и его окружением политика «общенационального единения», направленная на «сплочение здоровой нации» и исправление «тех ошибок и слабостей, которые привели к разгрому Франции» [1857], установит в стране авторитарный режим фашистского типа.
Однако уже 11 июля маршал на основе новой конституционной поправки опубликовал первые три конституционных акта, предоставлявшие ему всю полноту власти. Петэн становился главой правительства, а Лаваль – заместителем председателя Совета министров; парламент прекратил свои заседания; партии больше не существовали; демократические свободы ликвидировались; слово «Республика» во всех официальных документах заменялось термином «Французское государство», чья деятельность, по заявлению Петэна, была нацелена на сотрудничество с Германией [1858]. Французские политики с удивительной легкостью и быстротой отказались от, казалось бы, прочно утвердившихся в Третьей республике буржуазно-парламентских ценностей. Почти все видные политические деятели довоенной Франции из правого и левоцентристского лагеря поддержали Петэна и осуществленный им государственный переворот. Часть из них успокаивала себя тем, что Петэн сумел