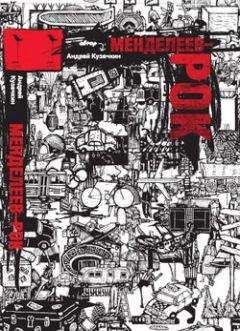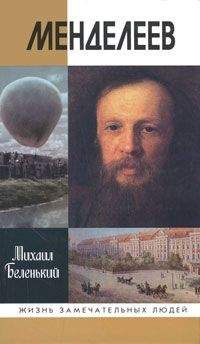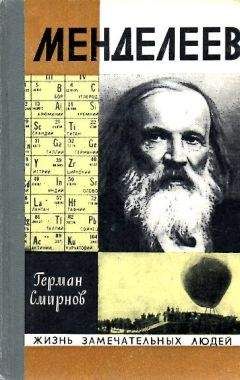Первобытный патриотизм давно сменился "странною любовью" к России Лермонтова или патриотизмом гр. Алексея Толстого, заставлявшим его, - как он пишет в одном письме, - "кататься по земле" от ужаса и бешенства пред некоторыми явлениями родной действительности. Новый патриотизм - это патриотизм Тургенева, как он выразился в "Дыме", или Льва Толстого в последний его период. Это патриотизм пушкинской эпиграммы, грибоедовской комедии, горького смеха Гоголя и жестокой психологии Достоевского. Короче это патриотизм всей русской литературы, почти сплошь обличительной, от добродушных усмешек Фонвизина до печальных чеховских миниатюр. Любовь к родине встречается еще живая, страстная, но обезображенная жалостью и отвращением к ней. Не может сердце равнодушно вынести унижений матери, падшей слишком низко, потерявшей свое достоинство... Лично я не люблю обличительной школы, но что она такое, как не сплошной стон любви, измученной и безнадежной? Видали ли вы, как ребенок тащит взрослого родителя из кабака, как он заливается слезами и сверкает негодованием детских глаз?
Колебанья духа
Лет тридцать назад обличение было единственной темой искусства - до отрицания самой природы последнего, эстетики. Мне всегда это казалось странным и страшным. Обличение необходимо, оно - сознание правды. Но слишком продолжительное, непрерывное из поколения в поколение раскрытие язв нашей жизни - не должно ли оно было кончиться потерей в обществе любви к родине, потерей уважения к ней и, может быть, всякого к ней интереса? Боюсь, что эта опасность для образованного общества уже близка. Загадочное равнодушие наших миллионеров - один из признаков общего понижения патриотизма, и это пора заметить. То же равнодушие сказывается и в других классах. Старое поколение писателей, учителей, судей, врачей, земцев и т.п. сплошь жалуется на повальный упадок идеализма, на дух карьеры, обуявший молодую интеллигенцию, на понижение профессиональной этики, на непомерно развивавшееся взяточничество и вновь поднявшееся пренебрежение к народу. Помимо других причин, этот моральный упадок не происходит ли от все более и более глохнущей любви к родине? В стране, которую уже не жаль, ведут себя как в завоеванном царстве. Служба все реже переходит в служение, измена законности все реже чувствуется как низость. Говорят: "У нас нет гражданских инстинктов"; "Мы плохие граждане". Но что же это значит? Не потому ли мы плохие граждане, что любовь к отечеству настолько у нас понижена, что уже не может вдохнуть мужества постоять за правду?
Ведь что до страсти любишь, тому не изменишь, а наша внутренняя жизнь насквозь источена тысячью измен своей государственности, тысячью обходов закона, сделок с совестью и предательств. Недобросовестность - стихия наших отношений к родине, но можно ли быть недобросовестным к тому, что любишь? Разве влюбленный опоздает когда-нибудь на свидание? Разве мать заснет у колыбели больного ребенка? Разве тот же купец забудет совершить срочную сделку или выгодный оборот?
Нет сомнения, простой народ в массе еще любит свою родину - физической любовью варваров, зверей и растений. Народ стихийно держится своей почвы. Тысячелетиями он сросся с милыми впечатлениями, вошедшими в ткань души. Когда живешь там, где родился, несешь из младенчества все то очарование, которым тебя встретил мир, и все его влагаешь в родные лица, в родные краски, запахи, звуки. Народ смертельной жалостью любит свои бревенчатые берлоги, гомон баб, крик гусей, звон косы на лугу, запах дегтя и навоза. Все это свое, неотделимое. И если бы жизнь крестьян была упорядочена, прямо не было бы предела их счастью и обожанию своего уголка и всей страны, сложившейся из таких уголков. Но к глубокому горю народному, в жизнь деревни вторгаются начала, расстраивающие естественное счастье. Уже давно, целые столетия, работают силы, колеблющие любовь мужика к родине.
В древности каждая колония, каждый двор был полунезависимым владением. Крестьянин самый скромный чувствовал себя самодержцем на своем поле, среди хозяйства, доставшегося от дедов и прадедов. Его собственность - наследие предков, и сам он, продолжатель их незапамятного труда, казались ему священными. Отсюда величие народного характера у древних варваров. Если верить Тациту, они все глядели владетельными особами. Отсюда достоинство и красота древних обычаев. То, что потом было мечтою философов XVIII века свобода, равенство, братство - то было действительностью, осуществленной, например, в вечевую эпоху. Тогда не было и тени рабства, которое потом возникло как следствие удельных распрей и завоеваний. Любовь варвара к своей родине была безгранична, но такой, например, ужас, как татарское иго, уже внушал сомнение. "Значит, - думал народ, - мы не так сильны, если не могли отстоять своей свободы. Значит, страна наша не первая под солнцем и Бог не на нашей стороне". Татарское иго сменилось еще более тяжким крепостным ярмом. Гражданин потерял право собственности на свою землю, на свое хозяйство, на свое жилище. Он потерял право на свою семью: жену и детей его могли продать. Гражданин потерял право на самого себя. Его, древнего владетеля, могли заставить работать чужую работу, могли бить, сослать, продать, как вещь. Мы, которые не пережили даже в преданьях этих проклятых условий жизни, представить себе не можем, что чувствовал человек нашей расы, очутившись в подобном рабстве. Никем не записано безмерное отчаяние, слезы, тоска, безнадежность свободного племени, постепенно привыкавшего к рабству, - если к нему можно было привыкнуть! Я не думаю, чтобы можно привыкнуть к унижению, хотя бы беспрерывному. Литература наша дала ряд трогательных типов крепостных слуг, сживавшихся душой и сердцем с господами, но это потому лишь, что бывали милосердные господа, власть которых не напоминала рабства. Крепостные ужасы, как известно, разрастались постепенно. "Ко всему-то подлец-человек привыкает!" - говорил герой Достоевского. Иные крестьянские роды, столетиями забитые и одурелые, привыкли и к режиму домашних животных, но все, что было в народе благородного и сильного, или негодовало на свою судьбу, или бежало в пустынные леса и степи. Наша внутренняя политика в старину действовала как непрерывное нашествие. Она разгоняла население, она рвала все органические связи, она накладывала на гражданина позор и ужас. Скажите по совести, можно ли было любить родину в таких условиях? Мне кажется, нельзя. Еще в начале крепостного права народ на лишение свободы ответил смутным временем. Зашаталась земля и расселась. Часть потянула к Литве и Польше, часть к шведам, часть вошла в казацкое брожение. Прямо каким-то чудом спаслась Россия как государство. Некоторые историки приписывают это спасение такой случайности, как глупость Сигизмунда. Кое-как, однако, почти рухнувшая нация была собрана, но старине московской был подписан приговор. Охладевший к слишком жестокой родине народ почти не сделал сопротивления реформе Петра. Москва уступила Петербургу почти без боя, почему? Потому что народная вера в Москву и древняя любовь к родному быту были надломлены. Понравилось как-то сразу все немецкое, и в лице таких коренных русских людей, как Петр и его сподвижники, - это немецкое понравилось до страсти. Почему? Да потому, что свое родное перестало нравиться. Оно перестало нравиться еще Алексею Михайловичу, и даже ранее - царю Борису. Психологическая загадка: как могло нравиться то, чего московские люди почти не знали? Да, они не знали немецкого уклада, но хорошо знали свой собственный. Разлюбив его, они спасались в быт, презиравшийся благочестивыми предками, в быт еретиков и "поганых". Как женщины влюбляются иной раз только потому, что собственный муж противен, - народ с остывшею любовью к родине тянется к иным порядкам, может быть, не лучшим.
Примиренье
Петрова реформа спасла Россию психологически. Она вновь подняла интерес к России среди самих русских, она вернула им любовь к родине. Раз Россия сделалась сильной, могущественной, славной, - народу стало за что ее уважать. Почувствовалось, что отставшая страна решила искренно начать новую жизнь, что она вышла из прошлого, казавшегося западней, и вошла в будущее, для всех равное. "Теперь мы не хуже других" - это безотчетное сознание подняло гордость народную и любовь к России. - Не чем иным, как этою вспыхнувшею гордостью и любовью, были внушены победы Екатерины и Александра I. Но, к несчастью, надежды не были поддержаны. Иллюзия скоро исчезла. Над нацией все туже и туже затягивалась петля рабства: всего тяжелее был XIX век. Народ не мог не чувствовать бессмысленности внешних побед, если внутри слагалось завоевание и плен, хуже внешних. Образованное общество томилось и этим рабством, и сознанием нашей новой, все растущей отсталости от Запада. Гордость национальная не могла не страдать при виде нашего мрачного застоя, в то время как западные народы, точно спрыснутые живой водой, дружно, один за другим, выступали на путь свободного просвещения и кипучей практической работы. Недавнее сознание: "мы не хуже других" сменилось горестным убеждением, что "мы хуже". Крымский погром подтвердил это убеждение. Никогда патриотизм так не падал, как после крымской войны: даже славянофилы в лице Ивана Аксакова (см. "Письма" его) проклинали тогдашнюю Россию, а обличительная литература все русское топтала в грязь. Отвращение к своей жизни делалось помешательством, доходило до бегства из России, до измены ей. В Государственном Совете ставился вопрос об абсентеизме помещиков: даже вполне обеспеченные, культурные люди, облеченные феодальными прерогативами, просто не хотели жить в России. Дворяне переселялись в Европу или, в крайнем случае, в столицы, где могли забыться, устроившись на европейский лад. Опять, как при Петре, в обществе почувствовалась жгучая необходимость новой жизни. Презрение к самим себе раздавливало, требовало выхода. И вот настало наше второе возрождение - "великие реформы".