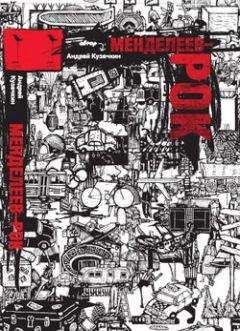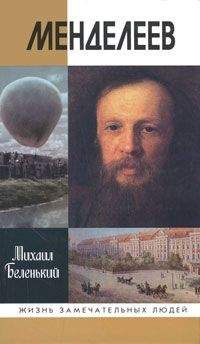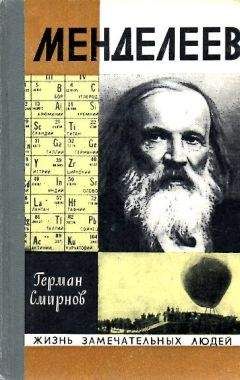Нас отделяет почти полвека от той эпохи. Сказать правду, реформа Александра II скользнула по русской жизни не глубже реформы Петра Великого: коренные основы судьбы народной и на этот раз едва были затронуты. Но уже самый лозунг реформы - "свобода" - произвел волшебное действие. Множество людей еще помнят то время, счастливые, незабвенные "шестидесятые годы". Поистине то была весна русской жизни, нашествие лучей, тепла и света. Сколько надежд, сколько горячей веры, сколько неразделимой с ними любви! Тогдашнее поколение ходило приподнятое, окрыленное, стремящееся к работе, к подвигу. И в самом деле, в одно какое-нибудь десятилетие сделано было больше, чем за предыдущие полтораста лет. Совершена была гигантская мирная революция без капли крови, переворот, которому удивлялся свет. Устройство крестьянского быта, учреждение впервые, как стоит наше царство, правильного суда, земское и городское самоуправление, постройка железных дорог, подъем промышленности и народного образования, лихорадочный рост русской литературы, искусства и науки и ряд нелегких пограничных войн. Что же возбуждало эту удивительную энергию? Почему в магическое слово: "свобода" влагали столько одушевления? Откуда явилась вера, движущая горами?
Позвольте сделать догадку. Мне кажется, весь восторг той эпохи происходил от чувства примирения со своей страной. Вся эта безотчетная радость была удовлетворением национальной гордости. Крестьянская реформа была великим делом, это было признано всем светом. "Значит, мы еще не пропащий народ, - думало общество. - На великие подвиги способна только великая страна. Хоть и в хвосте народов, но мы выступили на великую историческую дорогу, дорогу богатырей. К христианской цивилизации принадлежат гениальные племена. Мы вошли в состав их". Такова была психология той эпохи. Мы имели рыцарское величие признать на вечные времена народ наш свободным. Мы торжественно признали первую заповедь просвещения гражданское равенство перед законом. Мы перестроили некоторые важные отношения на началах братства. Подобно тому, как без всякого спора мы брали у Запада научные истины - пар, электричество, машины, - был момент, когда мы столь же доверчиво брали и политические истины, признанные во всем христианском мире. Вот это сознание, что мы искренно присоединяемся к славе и чести Европы, - и, стало быть, не хуже ее, это сознание наполняло душу того поколения гордостью за свою страну и примиряло с ней. Униженная, глубоко падшая родная мать, но возвращение ее к достойной жизни было встречено настрадавшимися детьми с той же беспредельной радостью, как в евангельском рассказе. Все было забыто, все прощено. Была надежда на новое светлое существование, и Россия еще раз была воспета своими поэтами, обласкана и оплакана слезами счастья и восторга...
Откуда любовь?
Трудно представить себе, до чего дошел бы подъем нашего одушевления, если бы продолжался ход реформ. Эти реформы обещали России громадный прирост энергии и как прямое следствие - богатство народное, просвещение, силу. Если не в настоящем, то в будущем - и очень близком - в те годы гордость народная видела полное удовлетворение. Людям было за что любить Россию, все шло молодым весенним бегом, все обещало чудное лето и роскошную жатву впереди. Но над нашей родиной точно висит какое-то проклятье. С Александровой реформой случилось то же, что с Петровой. Как тогда бунты стрелецкие и казацкие, так теперь польское восстание охладило идеализм реформаторов. Тяжкие войны и тогда, и теперь отвлекли слишком много внимания и средств, наконец, неожиданная смерть обоих великих государей оборвала их драгоценную работу на половине. Как и после смерти Петра, у нас вновь наступила пора сомнений и колебаний, и снова поднялся мрачный вопрос: быть России цивилизованной страной или не быть. Снова уныние, как холодный туман, разостлалось по лицу земли русской. Настоящее опять стало походить на прошлое, и опять поникла гордость народная и любовь к родной земле. Чем, скажите по совести, гордиться, если мы невежественнее всех на свете, если мы беднее всех? Если мы опутаны бытовыми насилиями и задыхаемся в бесправии? Если не только в настоящем, но и в будущем нет надежды, то чем гордиться? Можно ли искренно любить родину, если ею нельзя гордиться?
Обыкновенно говорят: "Истинная любовь бескорыстна. Неблагородно охладевать к отечеству за то только, что оно несчастно. Если мать родная невежественна, глупа, безумна, порочна - мы все-таки обязаны любить и уважать ее. Она - мать, существо после Бога самое священное, живой источник бытия нашего. Какова бы ни была родина, ей должно принадлежать все наше сердце".
Да, да. Это прекрасные слова. Но что же делать, если нельзя любить по обязанности? Любовь, как Дух Божий, она свободна, она дышит, где хочет. Нельзя ни приказать любить, ни потребовать любви. Ее нужно заслужить, и только тогда она непритворна. И родной матери разве даром дается любовь, когда она есть? Дается за безмерную любовь ее и нежность, за ее ласку. Дурных матерей не любят, и их нельзя любить, и чего стоит фальшивое, вынужденное почтение? Если недостойно в себе самом оправдывать дурное, то можно ли не замечать пороков и в родной стране? Естественно любить красивое, разумное, доброе, сильное, к безобразию же и глупости можно только снисходить. Нельзя, понимаете, нельзя любить того, что дурно. Это кощунство, против этого возмущается сама природа. И если жизнь так складывается, что для многих родина не лучше чужбины, то можно ли удивляться, что интерес к родине падает и благородная любовь к ней сменяется унылым безразличием?..
Откуда охлаждение
Вернемтесь к нашим "дикарям", московским миллионерам. Не дикость и не низость их заставляет воздерживаться от крупных жертв, и тем менее скупость. Разве не прокучивают они тысячей рублей за вечер? Разве не отваливают сотен тысяч и даже миллионов на маленькие, но ясные для них дела - на клиники, народные дома и т.п.? Раз не жертвуют на отечество, очевидно, они к отечеству охлаждены, имеют какую-то внутреннюю с ним распрю. В чем она?
Сколько известно, московские богачи - люди деловитые, далеко не глупые, достаточно образованные и с проснувшимся чувством достоинства. "Мы - сила в нашей стране", - думают они, и действительно, они сила. У иного купца десятки тысяч рабочих, сотни мастеров, механиков, инженеров, ученых бухгалтеров, докторов, учителей школ, чертежников, химиков, ревизоров. Огромные шестиэтажные корпуса, машины, склады, железные ветки, пароходы. Одна администрация у такого купца - целое министерство. Одних налогов в казну купец платит десятки и сотни тысяч. Кажется, крупная фигура миллионер, однако он ничто в своем отечестве, политический нуль. Вся роль его - быть дойной коровой для казны, и как от коровы не требуют ее мычанья, так и его голос в делах отечества - нечленораздельный звук. Для деловитых людей, сознающих свое значение, согласитесь, это становится неудобным. Налоги растут; мы накануне огромного подоходного налога. Десятки тысяч превратятся в сотни тысяч, и плательщикам хочется иметь хоть отдаленное представление о их судьбе. Купец большая сила, но отечество постоянно дает понять, что он "хам", что он сверчок, который всегда должен знать свой шесток. В так называемом хорошем обществе купец не принят. Он хозяин целой сотни полунищих дворян, которым платит гроши, но дети этих нищих поступают в особые учебные заведения и выходят в министры, а его дети - нет. Если сын купца хочет быть, например, моряком, он должен ехать в Англию или Японию; те флоты ему доступны, но родной флот ему недоступен. А просят жертвовать на флот. Это мелочь, если хотите, но оскорбительная, и запоминается, как сотни других мелочей, ограничивающих наше гражданское равенство. Хозяин огромного дела, дающий хлеб десяткам тысяч рабочих, купец не смеет прочесть рабочим ни газетной телеграммы, ни главы из Евангелия: на это требуется разрешение чиновника. Человек, рискующий миллионами, зависит часто от безусого столоначальника какой-нибудь канцелярии, который может зарезать дело или дать ход. Все это неудобно, очень неудобно. Миллионеры уже не довольствуются купленным по таксе почетным гражданством, им хочется просто быть гражданами. Но "гражданин" слово великое, и играть им нельзя. Гражданин - звание не ниже рыцарского, оно обязывает, но и дает права. Если же нет прав, нет и обязанностей. "Если я не гражданин, то нет у меня и отечества, - думает иной миллионер. - Что это за странная родина, где я чужой? Чего бы ни коснулось, "это не ваше дело". Чье же, однако, дело? Если не наше, стало быть, мы чужие, стало быть, где же родина, где чужбина? Чем в самом деле, подобное отечество отличается от чужих краев? Если все мои права здесь в том, чтобы платить налоги, то поезжай я в Англию, мне и там дадут это "право". Но там за него дадут полное равенство со всеми гражданами, обеспеченную защиту, простор для мысли и совести. Там я более родной, чем здесь, и если захочу участия в жизни - меня не оттолкнут. Где же родина, где чужбина?"