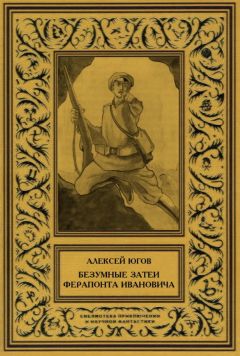И Арсений Шатров продал свои маслодельные заводы и лавки при них только-только что набиравшему тогда силу Союзу сибирских маслодельных артелей: "Пускай хоть своим! Ишь, проклятые, без войны, без единого выстрела заграбастали Сибирь! Не знал Ермак Тимофеевич, бедняга, что он ее для американских банкиров завоевывает!"
Тогда-то и забрезжил у него впервые замысел "Урало-Сибири" исполинского треста промышленно-производственных фирм, впрочем, со своим собственным банком, - треста, в котором объединились бы только промышленники и оптовые купцы Урала и Сибири, убрав начисто всех посредников между собою и миллионами покупателей, очистив Урал и Сибирь от международных грабителей.
Молодой еще тогда адвокат Анатолий Витальевич Кошанский под его руководством умело разработал устав замышляемой "Урало-Сибири". Увы! Еще и еще раз Арсению Шатрову пришлось испытать приступы черной желчи и против царского правительства, и против своих отечественных промышленников и купцов! Некий старик Чемодуров, известный всему уезду многотысячник и ростовщик, сверкнув злыми, насмешливыми глазками сквозь белый хворост бровей, молвил ему: "Умная у тебя башка, Арсений, да только жалко, что прикладу к этой голове маловато!" - "То есть как?" - "А так: тысчонок, поди, пятнадцать - двадцать - вот и весь твой истинник!" "Пускай так! Ну, и что дальше?" - "А дальше то: что лопни она, твоя "Урало-Сибирь", в котору ты нас тянешь, многим ли ты пострадашь? А я? Конешно, рыск - благородное дело, а на проценты жить спокойнее!.."
"Рыск... на проценты!.. Дубы стоеросовые!.. Вот и поди сколоти вас воедино, мамонтов сибирских!"
Кошанский, ездивший в Петербург за разрешением нового торгово-промышленного общества "Урало-Сибирь", ничего не мог добиться. Но, используя свои тайные связи и давние знакомства, молодой юрист выведал: против - сам Витте: "Почему это, дескать, намечается объединить одних лишь отечественных капиталистов? Я считаю привлечение иностранных капиталов к разработке естественных богатств империи весьма прогрессивным".
И еще дознался Кошанский: Трепов, товарищ министра, ведающий тайной полицией, решительно предлагал запретить этакое объединение: потому, мол, что это есть отрыжки р е в о л ю ц и о н н о г о сибирского областничества.
В гневе Арсений рубаху на себе разодрал!
Ольга утешала его: - "Ну, в конце концов, не в Тобол же бросаться!" - "А, милая! Вот, вот, ты угадала: именно - в него, в Тобол, и брошусь!"
И он впрямь "бросился в Тобол", но только совсем по-иному, по-шатровски! Опомниться не успели - узнали, что Арсений-то, слышь ты, уж у четырех мельников мельничонки ихние сторговал. Да ведь не стал на них молоть, а, слышь ты, сломал, порушил: мне, говорит, это старье ни к чему, а мне место дорого. Крупчатку на их месте буду ставить. Тобол плотинами подыму - электрическая тяга у меня будет на всё.
Вовремя опередив неразворотливых, косных конкурентов, Арсений Шатров крепко оседлал неистощимо-могучий, упруго-зыбкий хребет родной сибирской реки.
И Тобол спас Шатрова!
А в рабочих руках нужды Шатров не испытывал. Труд был дешев. Тысячи переселенцев-горемык кочевали тогда по Сибири, за любую работу готовы были кланяться в ноги.
Русско-японская война, ее мальчишески-хвастливое начало, ее корыстно-гнусная подоплека из-за каких-то там лесных концессий старой царицы, великих князей и придворных на чужой корейской земле - все это до последней степени ожесточило в нем тогда чувство брезгливого гнева против царя и правительства...
Вот почему, когда на митинге в паровозном депо человек, державший речь с паровоза, звонко, яростно кидал в грозно дышащую толпу: "Долой кровавую монархию!" - в глубинах сердца Арсения Шатрова отдавалось: "Долой!"
Вот почему, когда державший речь с паровоза простер свою руку над толпой и выкрикнул: "К ответу, к ответу, товарищи, - к ответу перед страшным судом народа всех виновников кровавой трагедии на Дальнем Востоке, всех виновников преступной войны!" - снова, подобно эху, в сердце Арсения Шатрова отозвалось: "К ответу!"
И в каком-то странном, все нарастающем самозабвении-наитии, чего еще никогда, никогда с ним не бывало, Арсений Шатров с запрокинутой головой и устремленным на оратора взором все ближе, все ближе протискивался к площадке паровоза.
А когда этот хрупкой внешности, со светло-русой бородкой и усами человек в рабочей одежде выкрикнул в толпу: "Вооружаться, вооружаться, кто чем только может, хотя бы выворачивая булыжник из мостовой!" Шатров, невольно дивясь над собою, заметил, что не только у него у самого, а и у многих, поблизости стоящих, сжимаются и разжимаются руки, словно бы ощупывая, осязая этот булыжник, вывороченный из мостовой.
В заключение своей речи Матвей Кедров - а это был именно он звонко-гневным и скорбным голосом выкрикнул:
- Он лжет народу, царь-кровопийца! Гражданские свободы, вещает он в своем подлом манифесте, неприкосновенность личности!.. Но мы знаем с вами, товарищи, что вот здесь, недалеко от нас, в городской тюрьме, в сырых, зловонных, каменных мешках томятся наши братья, рабочие-революционеры!.. Хороша "свобода и неприкосновенность"! А никто ведь и не думает из царских сатрапов освободить узников. Так неужели же мы позволим, товарищи, будем трусливо дожидаться, когда городской палач захлестнет веревки на их шее?! А, товарищи?!
И остановился, весь подавшись через железные перила над толпой, словно бы простираясь, летя. Выброшенная далеко вперед правая его рука, с раскрытой ладонью и вибрирующими перстами, словно бы сама и вопрошала, и требовала, и упрекала - гневно и скорбно...
Что поднялось!
Сквозь неистовый, гневный вопль сгрудившейся рабочей массы стали наконец слышны отдельные яростные призывы:
- На тюрьму!
- Разнести ее к черту!
- Товарищи! Идемте освобождать!
В этот миг, уже невластный сам над собою, на площадку паровоза одним прыжком взметнулся Шатров.
Оратор-большевик слегка отступил, как бы предоставляя ему слово.
Затихли. Ждали.
Арсений Шатров левой рукой сдернул перед народом шапку, а правой выхватил из кармана меховой куртки бельгийский вороненый пистолет и, потрясая им кверху, выкрикнул:
- Товарищи!.. Освободим заключенных! И знайте, что у нас не только булыжники!
Мужественно-ласковым движением Матвей Кедров приобнял его за плечо, на глазах у всего народа.
И вдруг, как бы сама собою, никем не запеваемая, сперва зазвенела, а там и на грозный перешла ропот, излюбленнейшая песня народных шествий тех дней:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог!
Вставай, подымайся, рабочий народ,
Иди на врага, люд голодный!..
И кто-то уже строил всех к выходу...
Но как раз в это время один из подростков, прицепившихся высоко над толпою, глянул на улицу и вдруг истошно, предостерегающе закричал:
- Каза-а-ки!.. Окружают!
И впрямь: это были они.
Но и не одни казаки! Кедров глянул. С высоты своей стальной паровозной трибуны он далеко мог видеть. И в глубине души он ужаснулся. Этого он все же не ожидал: от всех проходов и от обширного въезда в здание с ружьями наперевес, с примкнутыми штыками шли солдаты. С закаменевшими бледными лицами, они каменно шагали - так, что сотрясалось и гудело все здание.
"Солдаты - это серьезно! Значит, решились на пролитие крови!"
Уж начиналось смятение. Вот седоусый, с хмурым лицом рабочий гневно кричит на казака в папахе и черной шинели, схватившего его за плечо: "Ну, ну, казачок, потише!" - Отшвырнул его руку и выхватил огромный гаечный ключ. Казак отпрянул.
А седоусый торжествующе ухмыльнулся, опустил гаечный ключ к бедру, держа наготове, и вскинул глаза поверх несметноголовой толпы, отыскивая напряженным взором своим встречный взор Кедрова.
Нашел. Суровое лицо его осветилось радостью. Многозначительно подморгнул Матвеичу - и бровью и усом: видал, мол? - не дремлют твои дружинники, только подай знак!
Но Матвею ли Кедрову было не знать о том! И если для чуждого или для вражеского ока все это необъятно и гулко гудевшее, разноголосое толпище было стихийное, ничьей направляющей воле не подвластное бушевание гневом вздыбленного люда, то для него, Кедрова, это сплошное, якобы и не расчлененное предстояло резко и четко разделенным и огражденным.
Вот и вот... и вон там, при самом входе, и в гуще толпы, и те, что редкой, но отлично вооруженной цепью ограждают паровоз-трибуну, рабочие-боевики с завода Башкина и деповские - все они как бы стальной, но для чужого глаза незримой, тайной сетью, каркасом единой воли и устремления крепят и охраняют, но если нужно, то и увлекут, ринут весь этот народ на штурм тюрьмы.
Он верил, да нет, не верил, а знал - твердо и точно, - что эта незримая, живая, упругая цепь, именуемая "боевой дружиной РСДРП", - его питомцы и выученики на протяжении годов, им избранные и выверенные люди, лучшие из лучших, действительно лишь знака его условного ждут, чтобы двинуть массы на вооруженный мятеж, на попытку освободить политических заключенных.