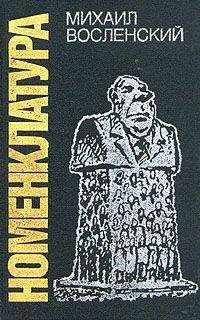— Нет, — возразил дядька Никола. — Уйти надумали от тебя, не серчай. Ноне последняя неделя перед Юрьевым днём началась. Сам знаешь, по законам государевым вольны мы в эту пору твои земли покинуть.
Побелел Иван Матвеевич Рытов. На скулах желваки заиграли. Рука с плетью сама собой поднялась.
Сжался Тренька. «Вот оно, начинается!» — подумал в страхе.
Однако сдержался Рытов, опустил плеть, не ударил.
— Чем не угодил, православные?
Дед, словно в чём виноват был, поклонился низко:
— Не взыщи, государь. Известно: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Землица в здешних местах бедная…
Дядька Никола, видно, за неловкость на себя досадуя, опомнился:
— Чего душой кривить? Земля прокормила бы. Да вот нам тебя, Иван Матвеевич, со чадами и домочадцами кормить тяжёленько. Эвон сколько вас! — кивнул в сторону барского дома, где изо всех окон и дверей рытовская родня выглядывала.
Рытов будто не слышал грубой речи.
— Ладно! Али деньгами разжились?
— Есть деньги, государь, — опять поклонился дед.
— Откуда?
Замялся дед. Дядька Никола, как договорено было, покривил душой:
— Мы, барин, с Яковом из Новгорода привезли. Родственник на руках помер. А деньги мне с сестрой, женой Якова, завещал.
Оборотил свой взгляд Рытов на дядьку Николу:
— Часом, не помогли помереть тому родственнику? А?
Побагровел дядька Никола:
— Мы, Иван Матвеевич, люди простые, душегубством не занимаемся…
Видать, ещё что-то хотел прибавить дядька Никола, да смолчал.
Рытов обернулся к приказчику:
— Знаешь ли, сколько с них следует?
— Как не знать! — ответил приказчик.
И тут произошло такое, от чего все рты пораскрывали. Вместо того, чтобы разгневаться, усмехнулся Рытов и приказал Трофиму коротко:
— Прими деньги. — И к деду обернулся: — С собой ли?
— А как же? — засуетился дед и дядьку Николу в бок: — Доставай поживее!
Дядьку Николу два раза просить о таком не надо было. За пазуху полез и два тяжёлых полотняных мешочка протянул:
— Получи сполна, Иван Матвеевич!
Рытов мешочки взял, на руки прикинул:
— Добро, мужички! — И Трофиму: — Сочти, верно ли?
Осмелел дед:
— Не серчай, государь-батюшка, и о Митьке поговорить надобно…
Тренька деда за рукав и шёпотом:
— Про Урвана не забудь!
Ещё выше вскинул брови Рытов, поглядел непонятно и бросил на ходу уже:
— О том завтра, старик!
На мужиков и баб, что вокруг собрались, рявкнул грозно:
— Али дела другого нет?
И пошёл, плёткой помахивая, в господские свои покои. За ним следом Филька, на Треньку злобно озираясь.
В приказчиковой избе деньги пересчитали. Всё сошлось в точности.
Митька в Осокине остался, остальные домой отправились.
Дед и тот в перемену к лучшему поверил. Всю дорогу над Тренькой добродушно подшучивал и глядел на внука ласково.
Только дядька Никола рассеянно вышагивал рядом.
— Ты чего? — спросил Тренька. — Будто не весел?
— Не нравится мне, Тереня, уж больно легко Рытов деньги взял и препятствий никаких к уходу не чинил.
— Эва! — дед насмешливо отозвался. — Нашёл заботу! Правда на нашей стороне. Куда ж было Ивану Матвеевичу податься?
— Что-то не очень Рытов на правду прежде глядел, — отозвался задумчиво дядька Никола.
Однако вечером и он повеселел. Принялся рассказывать о вольной жизни, что ждёт их на далёких землях, богатых и щедрых. О том тёплом крае, куда теперь лежит их путь-дорога.
Точно заворожённый слушал Тренька дядьку Николу.
Не заметил, как и уснул.
И снился Треньке сон удивительный: будто идёт он по шёлковому лугу, что лежит возле речки. А в реке не вода течёт — молоко, густое, тёплое.
И берег у той реки из мёда золотого, ровно янтарь, и сладкого…
— Проснись, Тереня! Проснись! — теребит мамка за плечо Треньку.
Неохота ему с дивным сном расставаться.
— Да ну тебя, маманя… — бормочет.
А мать своё:
— Очнись хоть чуток! Уходим мы все…
Садится Тренька на полатях, глаза удивлённо протирает.
— Куда, маманя?
— Всем, кроме детей малых, приказано идти в Осокино тотчас же. Мирон от барина прискакал, во дворе ждёт. Сказывает, писцы царские велели.
— Я как же? — У Треньки сна и в помине нет.
— Дома побудешь. Тришку вон Настасья привела.
— Нет, — решительно возражает Тренька. — С вами пойду! — и с полатей прыгает.
— Ладно, — соглашается дядька Никола. И он, оказывается, в избе. — Оставайся, Настасья, с дитятей. Обойдутся, чай, без тебя.
Хмуро ноябрьское утро. Дождь сеет. Под ногами чавкает грязь. Вязнут в грязи ноги, разъезжаются. Холодно, зябко Треньке. Позади, стражем конным, угрюмый холоп рытовский Мирон. На все вопросы у него ответ один: «Не ведаю!»
Пока до Осокина дошли, промок Тренька насквозь. Вода в лаптях хлюпает, за воротником ручейком холодным бежит. Разошёлся дождь вовсю.
Урван, что за Тренькой увязался, тоже мокрый весь, будто в речке искупался.
В Осокине перед господским домам топчутся мужики и бабы, согнанные с убогих рытовских деревенек. Подле крыльца приказчик Трофим с ноги на ногу переминается. Как и у Мирона, на всё у него один сказ:
— Знать ничего не знаю, православные. Потерпите.
Тревожатся крестьяне, переговариваются. Своим умом норовят дойти, зачем их собрали.
— Царю на военные дела деньги нужны. Вот и прислал людей, — сказал кто-то.
Здравой показалась мысль. Стали мужики головы ломать: сколько ещё денег придётся платить царю, а главное, где те деньги взять.
— А может, государь Иван Васильевич хочет долю крестьянскую облегчить и о том писцы объявлять будут? — какой-то мужичонка предположил.
Зашумели все, завздыхали:
— Кабы так!
Наконец растворилась дверь верхней горницы, вышли степенно писцы.
С ними дворянин государев Рытов.
Притихли все.
Рытов оглядел собравшихся, проверяя, точно ли его приказание выполнено. Доволен остался. Крикнул звонко:
— По делу великой важности собрал вас, крестьяне!
И склонился к высокому грузному писцу, должно главному:
— Изволь, Дмитрий Андреевич!
Писец вперёд выступил, толстыми губами пожевал и начал голосом низким и хриплым:
— Ведомо вам, что многие годы воюет государь Иван Васильевич с соседними властителями. От той войны разорение учинилось и многие земли в запустение пришли. Потому повелел царь и великий князь Иван Васильевич описать те земли, с указанием точным, которые из них впусте лежат, а которые пашутся. А также кому те земли даны и кто на них живёт…
Внемлют мужики и бабы затаив дыхание царскому писцу. А тот далее речь ведёт:
— И дабы порядок в описании том нарушен не был, установил царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич заповедные годы, в которые бы выход крестьян от одного помещика к другому запрещён был…
— Постой! — закричал дядька Никола. — Это что ж, теперь мы, стало быть, от Рытова уйти не можем? Так, что ли?
— Именно так, — спокойно, и недовольства не выражая, ответил писец.
— Помилуй! — Дядька Никола вперёд начал проталкиваться. — Мы расчёт с барином сделали, вчера сполна заплатили пожилое. Нам-то как же? Нас-то, верно, тот царёв указ не касается?
Писец опять губами пожевал, видать, такая у него была привычка, на дядьку Николу в упор уставился и возвысил голос:
— Кто ты такой есть, чтобы царёвы указы тебя не касались, а?
Зашумели мужики. А писец — здоровая у него оказалась глотка — рявкнул:
— Молчать! Царский указ читать буду!
Мужики, понятно, разом стихли. А писец развернул поданную ему бумагу и зычным голосом принялся читать:
— «Царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич с боярами приговорил…»
Долго читал писец. Мало что понял Тренька. Всё более на дядьку Николу поглядывал. А тот чем далее, тем лицом темнее делался.
Умолк писец. Откашлялся глухо.
— Понятно ли? — спросил. — Уразумели указ государя нашего Ивана Васильевича али нет?
— Уразумели… — отозвались мужики нестройно.
А дядька Никола опять вперёд полез:
— Постой, мил человек…
Писец свысока:
— Не мил человек я тебе — государев подьячий.
— По мне, хоть самим сатаной будь! — остервенился дядька Никола. Почто вчера Иван Матвеевич деньги брал? Выход сулил? А ноне ты царёв указ читаешь, что выходу не быть!
Осклабился подьячий:
— Должно, не знал Иван Матвеевич государева указа, потому и сулил.
— Как же так, Иван Матвеевич? — вплотную к Рытову подступился дядька Никола. — Взявши деньги, выходит, обманул, обвёл вокруг пальца. Так, что ли?
Рытов поверх Николиной головы посмотрел: