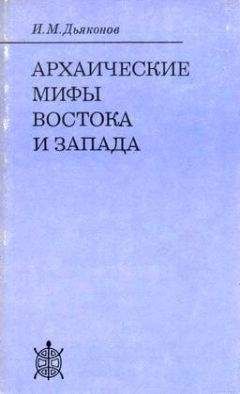По мере того как рассвобождается фантазия сказителей, начинается трансформация архаического мифа в словесное искусство, начинают возникать литературные сюжеты.
Первичный миф (оставляя в стороне мифические элементы эпоса, сказки и т. д.) есть связная, «сюжетная» интерпретация феноменов мира в условиях отсутствия общих понятий и при необходимости обобщения через тропы. Сами же подлежавшие интерпретации феномены можно грубо разделить на две группы: 1) феноменология внешнего мира (при этом непременно социально значимая для древнего человека — иные феномены не нуждались в осмыслении) и 2) феноменология социально-психологических побуждении.
На примерах феноменов внешнего мира ярче всего можно обнаружить зависимость мифотворчества от среды социального обитания человека. Социальный человек осмысливает через миф окружающий его мир — но это не один и тот же мир для обитателей оазисов в бездождной пустыне, орошаемой степи, горно-лесистой местности, для жителей берега морского, для участников морских походов вдоль неизвестных и не обитаемых людьми горных и ледяных стран. Он неодинаков для земледельца, скотовода, рыбака охотника, собирателя. По одним и тем же законам ассоциативно-метонимического мышления воссоздается неодинаковая картина космологии — и космогонии.
В их внутреннем мире у самых разных народов и племен больше общего, чем различного, — это обусловлено общностью характера социально-психологических побуждений, а в конечном счете — одинаковой физиологией мозга, действующей в различных условиях внешней среды. Мифические осмысления могут оказаться более или менее сходными, а расхождения обусловлены свойственной мифу вариативностью вообще. Разница здесь, однако, не абсолютная. Зависимость того, как складывается миф, от среды обитания человека (не только космоса, но неизбежно и социума) наглядно видима при осмыслении им внешнего мира, но такая же зависимость не могла не существовать и там, где дело идет о мире внутреннем, тоже части космоса; следовательно, связь и тут естественная и исходит не механически от исследователя, а от самого объекта исследования.
Заметим, что глубокая органическая связь мифотворчества со «своей» внешней и социальной средой обитания делает на архаической стадии предположения о заимствовании мифологических образов извне требующими самой строгой проверки: ни один чужеродный образ не прижился бы, если бы не имел местной социально-психологической базы. Поэтому, заметив сходство, скажем, того или иного шумерского мифического образа с индийским, не надо спешить с выводом о заимствовании; оно не исключено, но важнее установить, как данный образ укладывается в мифологическую систему мира данного народа в его собственной среде. Другое дело — сюжетные рассказы о героях, где уже утеряна связь с волевым актом, мыслимым в основе конкретных явлений, и особенно мифологии этико-догматических прозелитических религий: здесь заимствования мифов и естественны и неизбежны. Рассказы заимствуются и переосмысляются.
Социальная психология превратилась сейчас в развитую экспериментальную науку, однако историк не имеет возможности ставить эксперименты, поэтому должен пока оперировать лишь самыми общими для любого человека и социума, физиологически обусловленными побуждениями и инстинктами.
Строить теорию мифа надо на психологии общечеловеческой, но проявляющейся не в логических категориях, а в эмоционально-ассоциативной, метонимической передаче. В какой мере проявление этих побуждений можно интерпретировать в структурном плане, зависит в конечном счете от характера функционирования психики в самом широком смысле слова.
Итак, мы ищем социально-психологические корни мифа; но сказать «социально-психологические» значит сказать «социальные», т. е. зависящие от социальной и экологической среды.
Из всего вышеизложенного видно, что уже в самом первобытном обществе не могли не создаваться первичные мифы. К сожалению, в действительно первичном своем виде мифы нам почти недоступны — разве что через сравнительно-историческую лингвистику, достигающую сейчас диахронических глубин масштаба десятка тысяч лет; помимо же этого поневоле нужно черпать либо из этнографических записей, либо из раннеклассовых письменных источников; в связи с характером научной подготовки автора и других участников настоящей книги мы черпаем преимущественно из последних.
Наиболее архаичными надо, очевидно, считать мифы собирателей и охотников. Они известны недостаточно и только по записям миссионеров и этнографов. Характерные черты охотничьих мифологий (шаманизм, идентификация своего социума с предками вне мира людей — животными или иными, культ Владычицы или Владыки зверей и т. п.), без сомнения, кодируют, применительно к специфике данного тина первобытных обществ, такие же метонимически-ассоциативные интерпретации внешнего мира, как и в обществах ранних земледельцев и скотоводов. В земледельческо-скотоводческих мифологиях от таких специфических мифических сюжетов остались только пережитки,[94] и мы почти не будем их касаться.
Предметом настоящей работы будут наиболее архаичные мифы древнейших народов с воспроизводящим хозяйством (ранних земледельцев и скотоводов), сохраненные письменными источниками. Хотя их и нельзя равнять по глубине архаизма с мифами собирателей и охотников, но и земледельческо-скотоводческие мифы мы вправе характеризовать как архаичные, имея в виду, что культуры, которым мы обязаны созданием земледелия и скотоводства, восходят к раннему неолиту или даже к мезолиту — ко времени восемь-двенадцать тысяч лет до нас и задолго до большинства культурных изобретений человечества, кроме добычи огня. — Разумеется, в своей первоначальной устной форме сами архаические мифы нам недоступны, и приходится пользоваться их письменными ритмизованными изложениями.
Здесь мы должны подчеркнуть, что архаическое общество, которое мы здесь трактуем, — это общество патриархальное. Современной этнографией установлено, что матриархата как закономерной стадии в развитии всего человеческого общества не существовало, а матернитет (т. е. такие явления, как счет родства по материнской линии, матрилокальный брак) хотя и встречается, но сравнительно редко и, во всяком случае, почти не засвидетельствован в обществах, с которыми мы будем здесь иметь дело.
Это не значит, что в таком обществе женщина обязательно занимает подчиненное положение. Гораздо типичнее половозрастное разделение труда на «мужской» (например, обработка земли и скотоводство, из ремесел — металлургия и обработка камня) и «женский» (домашнее хозяйство, ткачество и отчасти керамическое дело). Совет общины нередко считается с мнением старших женщин.
Патриархальный род рассматривается как некоторое телесное единство, скрепленное мужским семенем; нерушимость родового тела делает невозможным в принципе наследование от отца через дочь к зятю (даже в случае брака-приймачества), но не препятствует наследованию от брата к брату; такое наследование нередко даже предпочиталось, так как позволяло избегнуть перехода родовой власти к малолетнему. В нуклеарных семьях — а такими могли быть семьи царей/вождей — могли возникать случаи, когда заранее заключались династические браки между братом и сестрой, позволявшие избежать перехода наследства к зятю из другого рода: в таком браке сестра и выйдя замуж передавала семя того же «родового тела».[95] Такие браки встречались на древнем Востоке у ликийцев, у египтян, у древних иранцев, возможно, и у других народов. Но лишь в поздней древности кровнородственные браки кое-где распространялись и вне царского рода. Греческий миф об Оресте (месть Ореста матери, царствующей в браке с убийцей его отца, ее первого мужа), приводившийся как доказательство существования в прошлом матриархата, вероятно, свидетельствует лишь о стремлении сохранить в неприкосновенности «родовое тело». Египетский миф о борьбе за царскую власть между Сетхом (братом умершего царя Осириса и мужа Нефтис — той сестры, которая является «хозяйкой дома») и Гором (сыном Осириса от «бродячей» сестры Исиды), вероятно, связан с этим же кругом представлений. Сама проблема наследования личного имущества (и тем более династийной власти) не относится к самой глубокой древности, поэтому данный тип мифа не может считаться особо архаичным.
Имеющиеся письменные источники следует использовать в наших целях с осторожностью, так как идеологии, получающие господство в условиях раннеклассового общества, тоже облекаются в форму мифов, поскольку силой массового социального убеждения обладают только эмоции, но не логические суждения.
Всякая новая идея должна пробивать себе дорогу в общество путем пропаганды. Этот термин, введенный впервые католической церковью в эпоху контрреформации (в 1622 г. папой Григорием XV была учреждена римская конгрегация пропаганды), мы употребляем здесь в широком смысле распространения оспариваемых идей: ясно, что там, где никто не спорит (как в случае традиционных представлений эпохи первобытности), может быть ритуал, но не может быть пропаганды. Пропаганда возможна только в борьбе — либо с традицией, либо с другой пропагандой. Уже в древности пропаганда была возможна не только религиозная — например, пропаганда идеи царственности, династии, империи, военная пропаганда. Но успех пропаганды (в ту или иную историческую эпоху древности) целиком зависит от восприимчивости к ней сферы социальных эмоций.