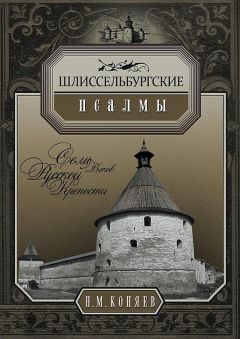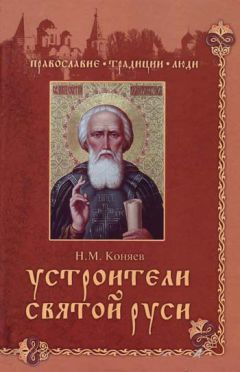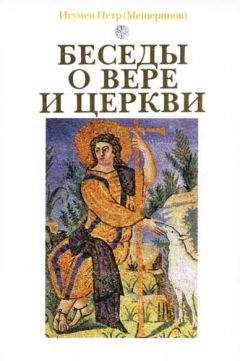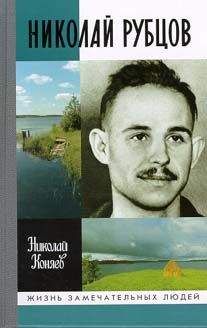Словно сквозь зубы, выцеживаются эти слова сквозь годы Петровской эпохи…
Письма беременной Екатерины Петру показывают, насколько по-женски умной была она. Сын еще не родился, а она: «Прошу, батюшка мой, обороны от Пиотрушки, понеже немалую имеет он со мною за вас ссору, а именно за то, что когда я про вас помяну ему, что папа уехал, то не любит той речи, что уехал, но более любит то и радуется, как молвишь, что здесь папа», — уже сумела сделать его реальным участником жизни отца.
Упрекать Екатерину невозможно. Она — мать, и она действует, как мать. Пиотрушка — ее восьмой ребенок и на него возложены большие надежды…
Но слова Екатерины падают в такую почву, во тьме которой зарождается чудовищное преступление сыноубийства.
«Дорогой наш шишечка часто своего дражайшего папа упоминает и при помощи Божией, во свое состояние происходит и непрестанно веселится муштрованием солдат и пушечною стрельбою»…
«Шишечка наш, при помощи Божией во свое состояние приходит»…
Семья царевича Алексея и семья Петра I — погодки[26]. Параллельно с появлением новых наследников в семье императора, появляются дети и в семье царевича Алексея.
Рождение их Екатерина воспринимала, как прямую угрозу своим детям, и она сумела устроить так, что как только появился у царевича Алексея сын (будущий русский император Петр II), война на уничтожение царевича переходит в решающую стадию.
Отметим справедливости ради, что Петр I не сразу выступил в поход. Более того, есть явные свидетельства, что он пытался уберечь семью сына от происков Екатерины и Меншикова.
6
В 1714 году, когда кронпринцесса Шарлотта должна была разрешиться от бремени, царь приставил к ней двух доверенных женщин, госпожу Брюс и князь-игуменью Ржевскую.
«Я не хотел бы вас трудить, — написал он невестке из-под Ревеля, — но отлучение ради супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь… дабы о том некоторой анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцлер, граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были».
Кронпринцесса была удивлена, но желанию свекра перечить не посмела.
«По указу вашему, у ее величества у кронпринцессы, я и Брюсова жена живем и ни на час не отступаем… — доносила Ржевская. — Ия обещаюсь самим Богом, еже-ей-ей, ни на великие миллионы не прельщусь, и рада вам служить от сердца моего, как умею».
«Что это значит? — приводя эти письма, задавался вопросом М. Погодин. — Какой анштальт учинить предполагал Петр? Какие подозрения и в ком возбуждала богобоязненная кронпринцесса? Не боялся ли он подлога в случае неблагополучного разрешения? Кажется, так поняла и кронпринцесса, в ответе своем именно сказавшая: «…и на уме мне не приходило намерение обмануть ваше величество и кронпринца!»
Если же Петр боялся подлога, то, значит, рождение детей у сына занимало его сильно».
Но так было в 1714 году, когда кронпринцесса рожала дочь Наталью… 12 октября 1715 года роды проходили совсем в другой обстановке.
«Замечали при царском дворе зависть за то, что она родила принца, — доносил Плейер, — и знали, что царица тайно старалась ее преследовать, вследствие чего она была постоянно огорчена… Деньги, назначенные на ее содержание, выдавались очень скупо и с затруднениями… Смерти принцессы много способствовали разнородные огорчения, которые она испытывала».
Об этом же рассказывал в Вене и царевич Алексей…
«Отец ко мне был добр, но с тех пор, как пошли у жены моей дети, все сделалось хуже, особенно когда явилась царица и сама родила сына. Она и Меншиков постоянно вооружали против меня отца; оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести» (курсив мой. — Н.К.).
Обратимся далее к сухой хронике…
22 октября 1715 года. Не оправившись после родов будущего русского императора Петра II, кронпринцесса умерла.
28 октября. После похорон принцессы Петр I в доме царевича во время поминок публично отдает сыну написанное еще в Шлиссельбурге письмо с требованием «нелицемерно исправиться».
«Егда же сию Богом данную нашему отечеству радость (победы над шведами) рассмотряя, обозрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя наследства весьма на правление дел государственных непотребного (Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отъял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче не весьма слабой); паче же всего о воинском деле ниже слышать хощешь, чем мы от тьмы к свету вышли и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтобы охоч был воевать без законные причины, но любить сие дело и всею возможностию снабдевать и учить: ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона… Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, но сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что очевидно есть, ибо во дни владения брата моего не все ли паче прочего любили платье и лошадей, а ныне оружие? Хотя кому до обоих и дела нет, и до чего охотник начальствуй, до того и все, а отчего отвращается, от того все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидают, кольми же паче сию зело тяжкую забаву (сиречь оружие) оставят! К тому же, не имея охоты, ни в чем обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, то како повелевать оными можешь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле? Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон! Ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь не может…
Сие все представя, обращусь паки на первое, о тебе рассуждати: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписаное с помощию Вышнего насаждение и уже некоторое и возращенное оставлю? Тому, иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сиречь все, что Бог дал, бросил)! Аще же и сие воспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен! Ибо сколько много за сие тебя бранивал, и не точию бранивал, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобой, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однако ж всего лучше, всего дороже безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от того следовать (истину Павел святой пишет: како той может церковь Божию управить, иже о доме своем не радит?) не точию тебе, но и всему государству.
Что все я с горестию размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо избрал сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще не лицемерно обротить. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангрезный, и не мни себе, что один ты у меня сын (курсив мой. — Н.К.) и что я сие только в устрастку пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, чем свой непотребный».
29 октября. Рождение Петра Петровича — сына Петра I и Екатерины Алексеевны.
31 октября. Отказ царевича Алексея от притязаний на престол. Алексей просит отца отпустить его в монастырь.
Нет никакой нужды анализировать содержание упреков в письме Петра I.
Что такое «нелицемерно исправиться»?
Историки часто упрекают Алексея в притворстве, в равнодушии к отцовским делам. И вместе с тем никто из них не отрицает, что Алексей всегда старался угодить деспоту-отцу: прилежно учился, выполнял все приказы и поручения и никогда, как это говаривали в старину, не выходил из-под его воли.
Мы уже говорили, что царевич Алексей действительно не любил войны. Война никогда не была для него игрой, которую можно бросить в любой момент. Войну царевич воспринимал как тяжелую и грязную работу… Он достаточно исправно, несмотря на молодые годы, исполнял этот труд, но радоваться крови и грязи войны так и не научился.
Однако Петру, который сам в двадцативосьмилетнем возрасте бросил на произвол судьбы всю свою армию перед сражением под Нарвой, упрекать сына за неготовность воевать по меньшей мере неосмотрительно. Это как раз проявление того поразительного ханжества и лицемерия, которые Петр I так не любил в других, но которых в самом себе никогда не замечал.
Ни о чем, кроме поразительного ханжества Петра I, не свидетельствует и его письмо сыну. Гораздо более интересными представляются его слова: не мни себе, что один ты у меня сын…