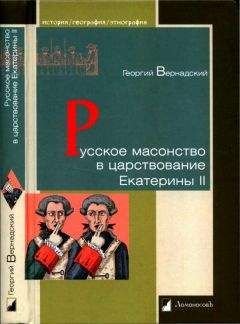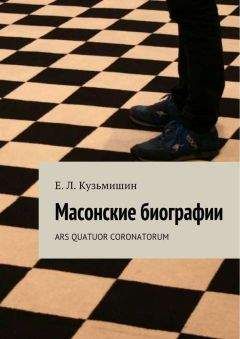V
А вот еще слова Мирабо, приводимые Мармонтелем:
«Только деньги и надежда пограбить имеют власть над этим народом! Мы только что это испробовали в Сент-Антуанском предместье. Право нельзя поверить, как легко было герцогу Орлеанскому разграбить мануфактуру несчастного Ревельона, который кормил сотни семейств в среде того же народа»… Далее Мирабо шутливо доказывает, что, имея тысячу луи в кармане, можно устроить настоящий бунт.
«Буржуазии необходимо внушить, что она при перемене только выиграет, — продолжает Мирабо, — чтобы поднять буржуазию существуют могущественные рычаги: деньги, тревожные слухи о неурожаях, голоде, бред ужаса и ненависти, — все это сильно действует на умы. Но буржуазия дает лишь громких трибунных ораторов, и все они — ничто в сравнении с демосфенами, которые за один экю в кабаках, публичных местах, садах, на набережных ведут речи о пожарах, разграбленных деревнях, о потоках крови, о заговорах, о голоде и о разгроме Парижа. Этого требует социальное движение. Разве можно что-нибудь сделать с этим народом одними разглагольствованиями о честности, справедливости? Порядочные люди всегда слабы и робки; решительны только головорезы. Народ во время революции ужасен тем, что нет у него нравственных задерживающих устоев; а чем бороться против людей, для которых все средства хороши?! Тут нельзя говорить о добродетели, ибо для народа она не нужна, а революции необходимо только то, что ей полезно и подходяще: в этом ее основное начало».[111]
Ко времени отправления депутатов в генеральные штаты масонские ложи в Париже и провинции необыкновенно размножаются, а также изменяется система набора новых братьев. До сих пор народный элемент редко попадает в ложи. Теперь же масоны-наборщики наполняют предместья. Сент-Антуан и Сен-Марсо, рассыпаются по городам и весям, основывают ложи, в которых и крестьяне, и рабочие слушают разговоры о равенстве, свободе и народном благе в том смысле, как толкуют эти понятия революционно-масонские идеологи. Герцог Орлеанский призывает в ложи даже солдат французской гвардии, предназначенных брать Бастилию и Версаль. Офицеры гвардейских полков принуждены были выйти из масонских лож, когда увидели там в качестве равных себе сочленов своих подчиненных.
В это время открылось в Париже множество клубов, где шли оживленные толки на политически темы. Составленные в клубах резолюции передавались в «Великий Восток», а оттуда во все провинциальные ложи. «Мастера стула» этих лож были обязаны уведомлять о получении таких «инструкций», присовокупляя клятву верно и точно исполнять все имеющиеся там предписания… Тем, кого эти приказания пугали или возмущали, оставалось только покинуть масонство. На их место становилась более преданные адепты… Приказание следовали одно за другим вплоть до самого открытия генеральных штатов.
День общего восстания был назначен на 14 июля 1789 года. В этот день крики о свободе и равенстве были вынесены из масонских лож на улицу. Париж вооружился штыками, пиками, топорами. Бастилия пала. Гонцы, которые понесли эту новость в провинцию, возвратились с известием, что все города и деревни восстали… Знаменательно, что с этого дня уже нет больше лож, нет масонских центров. Теперь масонов можно найти только в разных партиях, городских управлениях и революционных комитетах. Как господствовали они на предвыборных собраниях, так будут господствовать они и в национальном собрании.[112]
Террор, зародившийся в лоне «филантропического» общества, мало-помалу овладел и генеральными штатами.
«Хотя доступ посторонним в нашу залу (т. е. залу, где заседало третье сословие), — рассказывает Бадьи, — был запрещен, там всегда находилось более шестисот посторонних зрителей, не молчаливых, а весьма деятельных; они смешивались о депутатами, участвовали в голосованиях, словом рядом с нами заседало как бы второе параллельное собрание, которое часто диктовало свою волю первому, т. е. нашему. Они отвечали и записывали имена тех, кто не голосовал по их указке. Эти записи тотчас же передавались из залы в публику, и люди, носившие взятые в подозрение имена, объявлялась «врагами народа». Проскрипционные списки тут же составлялись, печатались и в тот же вечер в Пале-Рояле получали окончательное утверждение.
«Под подобным открытым, грубым давлением прошли многие декреты, между прочим и тот, по которому штаты провозгласили себя национальным собранием и захватили верховную власть. Накануне этого депутат Малуэ предложил предварительно проверить, на чьей стороне по этому вопросу окажется большинство, но тотчас же он был окружен противниками, и какой-то человек из присутствовавших посторонних бросился на него c криком: «молчи, негодный гражданин!».
Хотя Малуэ был освобожден, но собрание обуял страх. В результате под влиянием угроз и насилия на другой день на стороне Малуэ оказалось всего девяносто человек, тогда как накануне их было триста. Три дня спустя, во время клятвы в зале Jeu de Paume, один депутат, Мартин д'Оух, посмел воспротивиться; он подвергся грубым оскорблениям и, чтобы не быть растерзанным толпившейся у входа чернью, принужден был спастись через заднюю дверь. Вследствие такого вмешательства насильников из посторонней публики радикальное меньшинство, около тридцати человек, вело за собою большинство и не давало ему свободы действий».[113]
«В последние дни апреля 1789 года через парижские заставы вошло огромное количество всякого сброда».[114] «С первых чисел мая, — пишет Тэн, — замечается, что общий облик парижской толпы изменился; к ней подбавилось множество иностранцев изо всех стран, в лохмотьях, с большими дубинами в руках; уж один внешний вид их показывал, чего можно было от них ожидать».[115]
Один из депутатов от дворянства, перешедший к третьему сословию, граф Лалли-Толандалль, свидетельствует:
«Уже давно Париж был полон таинственными подстрекателями, которые сыпали деньгами направо и налево… Пришла откуда то весть, что парижские волнения отозвались не только в соседних городах, но и в отдаленных провинциях. В Сен-Жермене и Пуасси разыгрались кровавые сцены; то же угрожало Понтуазу; стало неладно в Бретани, Нормандии и Бургундии; волнение грозили распространиться по всей Франции.
Агенты, очевидно отправленные все из одного центрального места, рыскали по дорогам, городам и деревням, нигде не останавливаясь надолго, били в набат, объявляли то о нашествии иноземных войск, то о появлении разбойников, призывая всюду к оружию. Раздавали деньги. Эта агитация оставляла страшные следы: грабили хлеб, поджигали дома, убивали владельцев».[116]
Другой очевидец пишет:
«Я видел, как какие-то люди проезжали верхом мимо нас и кричали, что гусары грабят и жгут хлеба, что такая-то деревня горит, другая залита кровью.. На самом деле ничего подобного не было, но от страха, ужаса и негодования народ обезумел, а это было все, что нужно».[117]
Подобно тому, как одинаковые образцы наказов (cahiers) были распространены в 1789 году, как бы по условному знаку по всей стране, так же очевидно был дан такой же приказ и для распространение террора:
«В Эльзасе предъявляли королевский эдикт, в котором было сказано, что всякий сам может чинить суд и расправу; в Зундгау ткач в голубой ленте выдает себя за принца, второго сына короля; то же происходит в Дофинэ».[118] «В Бургундии было напечатано и расклеено, в виде будто бы обязательного постановления, следующее: «по приказанию короля с 1 августа по 1 ноября разрешается поджигать все замки и вешать всякого, кто против этого что-нибудь скажет». В Оверни крестьянам розданы такие же воззвания, в которых сказано: «его величество этого требует». Тоже самое делалось в Провансе. В Бриньоме грабили кассу сборщика податей при криках: «да здравствует король!».[119]
В других прокламациях говорится о нашествии врагов, — будто бы на Бретань и Нормандию напали англичане, на Дофинэ — савояры, а испанцы перешли уже Пиренеи. Повсюду всем мерещились иностранные шпионы и предатели. Чтобы еще более подействовать на народ, пустили слух, будто шайки разбойников рыскают по стране, грабя, поджигая, убивая и уничтожая все по пути. Неизвестно откуда появившиеся посланцы распространяли повсюду подобные вести.
«28 июля Террор распространился по всей области (Сент-Анжель–Лимузен); в полдень 29-го зазвонили в набат во все колокола, призывая к оружию; били в барабаны; мужчины собираются для защиты своих жилищ, женщины спешат прятать свои пожитки и бегут с детьми в леса».[120]
В Лиможе такую же панику производит шесть человек, переодетых капуцинами.[121]