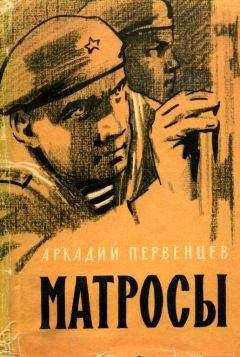На кого они надеялись?
На него, Стецка, поколебленного в своей вере ими же самими, на гориллообразного Чугуна, с его неутолимой жаждой добывательства, на Зиновия, предельно эгоистичного человека, с осанкой тигра и повадками шакала?
Может быть, там, за кордоном, в дебрях гор и лесов Западной Украины, он встретит рыцарей без страха и упрека, тех, кто ведет крестовый поход против "катов и насильников".
Нравственные самоистязания, навеянные искусительными речами Романа Сигизмундовича, не помогали сосредоточиться на главной задаче: он, Стецко, обязан появиться там, в схронах, в лесах, где его ждут, как светоч, как оруженосец великого движения, убедить в том, что их дела им под силу, а жертвы не напрасны.
И Стецко представлял себя в мантии пророка, озаренного величием тех, кто где-то за кордоном с исступленной страстью готовил себя к мученическому костру... Ян Гус, Жанна д'Арк!
Потом под стук колес (они уже тащились где-то под Краковом), полузакрыв глаза и подремывая, он думал о своей семье, которая выплывала перед ним в нереальных, забытых очертаниях: жена, дети... Были ли они вообще? Что знают они о своем муже и отце? Для них он покойник. И, наверное, уже давно... Как они примут его, если он переступит порог их дома? Да есть ли у них дом? Невероятные муки доставляли ему эти мысли, и он хотел видеть все чистым, облагороженным, таким, каким представлялись ему картины детства.
Его отец не буржуй, не кровопиец, а обычный, хотя, пожалуй, не совсем обычный, чиновник судейского ведомства, в мундире по праздникам, с восковым, всегда настороженным лицом и бородкой, пахнувшей почему-то просфорой. Пасхальный стол с неизменным запеченным гусем, с куличами, обсыпанными сахарной пудрой и разноцветными зернышками бисера, а в церкви плащаница с запахом ладана и тайнами, скрытыми в священном гробе спасителя...
Как все далеко! Ушло невозвратно. И он сам обреченный, загнанный в тупик, из которого нет выхода. Он шел на смерть и не сомневался в своей неминуемой гибели.
Но минуты душевного упадка, как у наркомана, сменялись подъемом, и иногда воображение подсказывало другие образы. Просыпались мстительность и беспощадность отверженного, сладостное чувство власти и силы - то, что вдохновляло его прежде, когда сердце было твердо, как голенища немецких сапог, и совесть черна, словно ворот эсэсовского мундира. Тогда мысли его не поднимались выше этого дарованного ему эсэсовского воротника, и единственным ответом на все вопросы была очередь из отлично вычищенного денщиком парабеллума.
- Вы спите? - Зиновий толкнул его в бок. - Скоро сходить. Не забудьте свои вещи. Я и так вызываю подозрение, таская их вместо вас.
- Хорошо, - очнувшись от мыслей, ответил Стецко. - Скоро граница?
- Да... - ответил Зиновий, прислонившись щекой к окну вагона и вглядываясь в проносящиеся мимо леса. - От станции еще двенадцать километров на телеге...
- Телегой? - машинально переспрашивает Стецко, хотя знал и о телеге, и о тех, кто должен был их встретить, и о паролях, и о том, где им надлежало перейти границу "сложившегося государства", которое им предстояло отобрать так же просто, как ссыпать к себе в карман пригоршню грошей, выигранных случайно на счастливую карту.
"Не стремитесь победить в первой же схватке советского солдата. Он обучен лучше всех вас..." Чьи это слова?
"Не сумеете уйти, руки вверх, сдавайтесь... физически..."
Подлые советы! За такие напутствия надо стрелять в упор, а потом, выбросив испачканный о подлеца пистолет, вымыть руки. А он, Стецко, слушал, вскакивал, кланялся. Рабская кровь, гнусность, политическая пошлость, гниль.
- Будем переходить по надежному мосту проводки, - шепнул Зиновий, - у села Скумырды.
"Кто из нас старший, он или я?" - мелькнула мысль, пробуждая дремавший мозг, и сразу в ответ проснулись все чувства, напряглась воля, обострился слух, зрение: зверь почувствовал опасность. Это было состояние, которое Стецко считал нормальным.
Мимо медленно проплывали огоньки какой-то деревни. Поезд замедлял ход. На перроне их скорей всего встретят поляки, будут самодовольно проверять документы, еще и поведут куда-то... Но все предусмотрено. Существуют Зиновий и Чугун, эти не сдадутся... Хотя кто знает?..
Глава восьмая
На линейной заставе капитана Галайды прокладывали контрольно-следовую полосу - КСП, чтобы ликвидировать "бродвей" (так называли этот трудный, горно-лесистый участок границы, где еще оставались любители поживиться контрабандой или подзаработать, переправляя нарушителей).
Контрольно-следовая полоса должна была представлять собой расчищенную, перепаханную и проборонованную полоску земли такой ширины, чтобы человек не мог перейти ее, не оставив следов.
Но злые люди стараются перехитрить создателей КСП, применяют ходули, шесты, подвязывают к ногам и рукам лапы медведей или копыта рогатого скота...
Пограничники умело разгадывают уловки нарушителей, обобщают опыт своих лучших следопытов, вырабатывают наставления, инструкции. Формула "Действие рождает противодействие" надежно подкрепляется практикой.
Капитан Галайда, переведенный с высокогорного участка советско-турецкой границы, знал, как разделывать полосу на сложном рельефе, используя для этого все возможности заставы, и обещал командованию не затягивать дело - до зимы оставалось немного времени. Солдаты работали не покладая рук.
В долине, за ручьем, извилисто бегущим вдоль границы, справились более или менее легко - тракторами и металлическими боронами "зигзаг", а вот в горах, куда вела граница, пришлось трудновато: надо было выкорчевывать деревья и кустарник с цепкими, стальными корнями, выволакивать камни, размельчать грунт, а скальные пролысины засыпать мягкой землей, которую приходилось таскать на себе из долины.
Послеобеденный отдых был отменен решением комсомольского собрания, от субботников никто не освобождался. Идущие в наряд работали тоже. На временном стенде под самой развесистой елью появились "молнии", кого-то хвалили, кого-то упрекали, рисовали карикатуры.
Одним из объектов шуток был рядовой Путятин, человек самолюбивый, будто нарочно испытывавший терпение своих воспитателей. Старшина Сушняк, не только памятью, но и сердцем затвердивший устав, инструкции, ревниво оберегающий размеренный быт заставы, вел тайную войну с непонятным ему солдатом.
Поработав вдосталь, Сушняк теперь с сознанием исполненного долга стоял на взгорке, поторапливая таскавших отсыпанную землю бойцов: приближались сумерки.
От тропы круто уходила скалистая обочина щели, унизанная ожерельями можжевельника, крученого ельника, стеной, стоявшей, как конопля, крапивы. Горы, пусть невысокие, но красивые, светло-голубые вблизи, темно-синие вдалеке, цепь за цепью поднимались в желтое предзакатное небо.
Сверхсрочник Сушняк не сразу привык к этой природе после своей степной Украины. Но красота, какая бы она ни была, покоряет сердце, притягивает к себе. И Сушняк полюбил эти весенние рассветы, веселые, стремительные речки и сочную, яркую зелень, полюбил предосенний мелкий, как сквозь сито, дождь, низкие хмары, будто играющие в жмурки между верхушками гор, ту прелесть полонин, когда настоянный запахами трав воздух приятно распирает легкие и пьянит человека.
Сушняк смотрел на бойцов. По их вялым движениям, по запавшим в орбиты утомленным глазам, по частому, прерывистому дыханию было видно: ребята устали. Кое-кто пошатывался, и ноги "ходили" в широких голенищах сапог, кто-то сглатывал слюну и нет-нет да и припадал к кружке, обхватывая ее, будто боясь обронить, обеими руками. Бочонок с холодной, ключевой водой быстро опорожнялся, а если человек начинал хлебать воду - верный признак: сбился с темпа. И двужильный старшина вздыхал, покряхтывая, переминаясь с ноги на ногу, замечания отпускал вроде бы небрежным, но явно "подталкивающим" тоном.
Сам Сушняк, сильный, будто свитый из стальных тросов, не верил в усталость. Его мощный организм справлялся с любыми нагрузками, и поэтому старшина не сводил своего недовольного взгляда с Путятина, частенько язвительно "подбадривая" солдата.
Путятин, несомненно, не мог превзойти старшину силой мышц и потому считал возможным бороться с ним только силой интеллекта. Приближаясь к старшине, Путятин сбавлял шаг, пошатываясь, изображал на лице мрачную задумчивость несправедливо обиженного человека.
Но опытного старшину трудно было обмануть. Сушняк был достаточно проницателен, чтобы не уловить хитрости.
- Подтянитесь, товарищ Путятин!
Челюсти Сушняка твердели, на широких скулах начинали играть желваки.
Путятин высыпал землю и возвращался обратно, помахивая корзиной.
- Эх, вы, Путятин!.. Отчего вы такой?
- Какой, товарищ старшина?
- Снулый.
- Какой есть, товарищ старшина. - Путятин покорно останавливался, принимал стойку "смирно". - Каким мама родила.