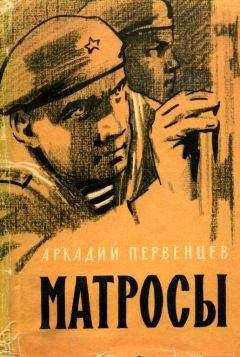И тогда тот, хмурый парень, пришедший своим медлительным и тяжким, как жернов, умом к мысли, что и ему пора вступить в беседу, пора и ему что-то промолвить, но говорить по-человечески он разучился, решил перепугать храбреца, старшего лейтенанта, посмотреть, який вин в деле?
Хмурый чуточку приподнял автомат и, нажав на спусковой крючок, послал в сторону медной трубы и белого прапора короткую очередь, послушно и дробко отстучавшую свою порцию.
Это было так неожиданно и так несогласно со всем тем, что здесь происходило. Но никто не шевельнулся. Никто не дрогнул. Приученные к стрельбе, люди не загалдели, не покачнулись, а только глядели, и не на хмурого, а на прикордонника - мимо него прошелестело.
Кутай стоял каменно спокойный, ни один мускул не дрогнул на его лице, ни одного лишнего движения не сделал, разве что успел перехватить и зажать в запястье руку Сушняка с гранатой.
Минута решала все. Либо кровь волной, либо эти люди прозреют, повинятся и будут спасены. Кутай заметил, как молодой парень, кричавший о самостийности, кинулся, чтобы прикончить хмурого.
- Стой, друже! - тихо произнес Кутай. - Стой!
Крик мог бы напортить: привыкли здесь к пособнику всех слабых крику, тихое слово оказалось могущественней. Парень остановился, повернулся к старшему лейтенанту, и лицо его застыло в зловещей муке.
- Не добалакали мы, - объяснил ему Кутай. - Пуля опережает даже слово. А слово сейчас нужней.
- Ты прощаешь ему? - спросил парень. - Ты Исус или кто ты?
- Не добалакали мы, хлопец, а Исус теж не все сказал, не успел. Добалакали за него апостолы. А кто за нас добалакает?
- Зачем? - покоряясь, спросил парень, засовывая наган за пояс. - Кому нужны мы?
- Народу нашему, - внятно сказал Кутай. - Или ты отрекаешься от своего народа?
- Нема правды нигде! Нема! Нема! Не кляни меня народом нашим! Правды нема! - Его резкий, прерывистый шепот перерос в крик, а затем в истеричный визг. Парень принялся рвать на себе рубаху, обрывки прелой ткани швырял вокруг себя и пошел с обнаженной грудью на Кутая, на перетрухнувшего Стецка. Не дойдя десятка шагов, остановился, задыхаясь, и, не выдавив из себя больше ни единого слова, выхватил нож, оттянул горсть кожи на своем животе и полоснул ножом. Обливаясь кровью, упал, забился.
К нему подскочили оуновцы с явным намерением пристрелить, но их опередили Сушняк и Денисов. Они подняли парня и тут же, разорвав индивидуальные пакеты, принялись перевязывать рану.
Все повернулось по-другому. Не трогаясь с места, все следили за перевязкой. Советские солдаты спасали жизнь своему врагу, которого, по жутким правилам средневековых обычаев, хотели тут же пристрелить свои.
Тот самый хмурый человек, пославший очередь в парламентеров, с трудом поднялся с места и, тяжело ступая, обошел пятно крови, сделал еще несколько шагов и первым швырнул свой автомат к ногам Кутая.
- Годи, хлопци! Досыть, друзи! - выкрикнул он истошно поразительно тонким голосом, несообразным с его мощным телом.
- Годи! - тоже с трудом переставляя ноги, подошел костлявый, бросил свое оружие и закашлялся так, что его пришлось увести под руки.
Не было никакой команды. Не было добалакано, как считал Кутай. Не были подписаны или обговорены условия сдачи и все прочее, положенное для оформления такого значительного акта. Люди из куреня Очерета сами бросали оружие.
Зазвучала труба, условным сигналом оповещающая мотострелков Пантикова и пограничников Галайды об успехе парламентеров.
Над вершинами буков проглянуло холодное и яркое зимнее солнце.