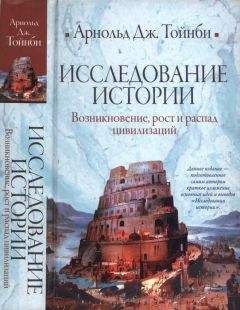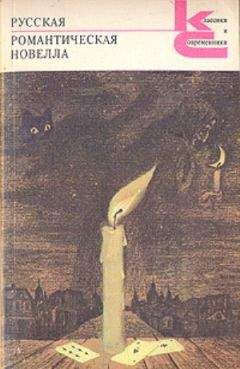Иллюзия прогресса как прямолинейного развития является примером той тенденции к нарочитому упрощению, которую проявляет во всех сферах своей деятельности человеческий ум. В своих «периодизациях» наши историки размещают периоды непрерывной цепью в единой последовательности, подобно сегментам бамбука от сочленения к сочленению или же подобно частям оригинальной раздвижной рукояти, на конце которой нынешние трубочисты проталкивают свои щетки в дымоход. На этом приспособлении, которое наши историки получили в наследство, первоначально было только два соединения: «древнее» и «новое», примерно, хотя и не точно, соответствовавшие Ветхому и Новому Заветам и двойственному отсчету дат в обоих направлениях до Рождества Христова и после. Эта дихотомия исторического времени является реликтом мировоззрения внутреннего пролетариата эллинского общества, выражавшего свое чувство отчуждения от эллинского правящего меньшинства через абсолютное противопоставление старого эллинского воздаяния и воздаяния христианской церкви и, таким образом, поддавшегося иллюзии (гораздо более извинительной для них с их ограниченными знаниями, чем для нас) трактовать переход от одного из наших двадцати одного общества к другому как поворотный пункт всей человеческой истории[129].
А так как время шло, наши историки нашли удобным удлинить свою «телескопическую щетку», добавив третье звено, которое они назвали «средневековым», поскольку поместили его между двумя другими. Но тогда как разделение между «древним» и «новым» символизировало разрыв между эллинской и западной историей, разделение между «средневековым» и «новым» символизирует лишь переход от одной главы западной истории к другой. Формула «древнее + средневековое + новое» является ложной. Ее следует поправить на «эллинское + западное (средневековое + новое)». Однако даже если этого и не делать, то, удостаивая один раздел главы западной истории названия отдельного «периода», должны ли мы отказать в этой чести другим? Нет никакого основания подчеркивать разделение приблизительно около 1475 г. в большей степени, чем около 1075-го, и нет достаточной причины утверждать, что мы недавно перешли в новую главу, начало которой можно поместить примерно в 1875 г. Так мы имеем:
Западная история 1 («темные века»), 675-1075 гг.
Западная история II («средние века»), 1075-1475 гг.
Западная история III («новое время»), 1475-1875 гг.
Западная история IV («постмодерн»?), 1875—?
Но мы отклонились от сути, которая состоит в том, что постановка знака равенства между эллинской и западной историей и Историей самой по себе, — если хотите, «древней и новой» — является просто узостью и дерзостью. Это как если бы географ написал книгу под названием «Всемирная география», которая бы оказалась лишь исследованием всего, что касается бассейна Средиземного моря и Европы.
Существует другая, весьма отличная от этой, концепция единства истории, совпадающая с теми популярными традиционными иллюзиями, которые обсуждались до сих пор, в том, что расходится с [основным] тезисом данной книги. Здесь мы сталкиваемся не с «идолом рынка»[130], но с плодом современного антропологического теоретизирования: мы имеем в виду диффузионистскую теорию, как она изложена в книгах Г. Эллиот-Смита «Древние египтяне и происхождение цивилизации»[131] и У. Дж. Перри «Дети солнца: исследование древней истории цивилизации»[132]. Эти авторы верят в «единство цивилизации» в особом смысле: не как в факт вчерашнего или завтрашнего дня, уже совершившийся благодаря всемирной диффузии одной-единственной западной цивилизации, но как в факт, совершавшийся тысячелетия назад благодаря диффузии египетской цивилизации — как оказалось, одной из немногих мертвых цивилизаций, для которой мы не смогли установить хоть какого-нибудь «потомства». Они полагают, что египетское общество представляет собой единственный случай, где такое явление, как цивилизация, было создано независимо, без помощи извне. Все другие проявления цивилизации происходят из Египта, включая американскую цивилизацию, куда египетское влияние, должно быть, проникло через Гавайи и остров Пасхи.
Теперь, конечно же, очевидно, что диффузия является способом, которым многие технические приемы, склонности, институты и идеи — от алфавита до швейных машинок Зингера — передавались от одного общества другому. Диффузией объясняется нынешнее повсеместное распространение дальневосточного чая, арабского кофе, центральноамериканского какао, амазонского каучука, центральноамериканской практики курения табака, шумерской практики двенадцатеричного счета, примером которой служит наш шиллинг[133], так называемых арабских цифр, которые первоначально, возможно, пришли с полуострова Индостан, и так далее. Но тот факт, что винтовка получила повсеместное распространение благодаря диффузии из одного центра, где она была однажды и единожды изобретена, не является доказательством того, что лук и стрелы распространились точно так же. И отсюда также не следует, что если механический ткацкий станок распространился по всему миру из Манчестера, то подобным же образом можно проследить распространение техники металлургии из одной точки. В данном случае мы имеем дело с очевидностью совсем иного рода.
Но в любом случае, цивилизации, вопреки извращенным понятиям современного материализма, не строятся из подобных кирпичей. Они не строятся из швейных машинок, табака и винтовок, ни даже из алфавитов и цифр. Легкоторговцу экспортировать новую западную технику. Бесконечно тяжелее западному поэту или святому воспламенить незападную душу духовным пламенем, который горит в его собственной. Отдавая должное диффузии, необходимо подчеркнуть и ту роль, которую играло в человеческой истории оригинальное творчество. Мы можем вспомнить, что искра или росток оригинального творчества может вспыхнуть пламенем или расцвести цветком в любом проявлении жизни благодаря принципу единообразия природы. По крайней мере, мы можем зайти настолько далеко, что даже взвалим onus probandi[134] на плечи диффузионистов в тех случаях, когда остается открытым вопрос, называть или не называть диффузией требование доверия к любому отдельному человеческому достижению.
«Не может быть ни малейшего сомнения, — писал Фримен в 1873 г., — что многие из наиболее существенных открытий цивилизованной жизни совершались вновь и вновь, в отдаленные друг от друга эпохи и в отдаленных друг от друга странах, как только различные народы достигали в своем общественном развитии определенных моментов, когда в этих изобретениях нуждались в первую очередь. Так, книгопечатание было независимо изобретено в Китае и средневековой Европе. Хорошо известно, что, в сущности, тот же процесс использовался в различных целях и в Древнем Риме, хотя никто не сделал великого шага, применив процесс, обычно использовавшийся для целей более посредственных, к изданию книг. То, что произошло с книгопечатанием, можно полагать, произошло также и с письменностью, и мы можем привести еще один пример искусства совсем иного рода. После сравнения остатков древних зданий в Египте, Греции, Италии, на Британских островах и в разрушенных городах Центральной Америки, не может быть сомнений, что великие изобретения арки и купола делались не раз в истории человеческого искусства… Нет нужды сомневаться и в том, что многие простейшие и наиболее необходимые в цивилизованной жизни искусства — использование мельницы, лука, приручение лошади, выдалбливание каноэ — открывались неоднократно в отдаленные друг от друга эпохи и в отдаленных друг от друга местах… То же самое касается и политических институтов. Одни и те же институты часто кажутся весьма далекими друг от друга просто из-за того, что вызвавшие их к жизни обстоятельства возникли в эпохи и в местах, весьма друг от друга удаленных»{26}.
Современный антрополог высказывает ту же самую идею: «Сходство в человеческих идеях и практиках главным образом происходит из одинаковой структуры человеческого мозга во всем мире и, как следствие, из одинаковой природы его сознания. Поскольку этот телесный орган на всех известных стадиях человеческой истории по своей конституции и нервным процессам в основном был одним и тем же, постольку и сознание обладало определенными универсальными характеристиками, возможностями и способами действия… Эта схожесть в работе мозга видна в XIX столетии на примере интеллектов Дарвина и Рассела Уоллеса[135], которые, работая над одними и теми же данными, одновременно пришли к теории эволюции. Эта же схожесть объясняет многочисленные претензии на первенство в отношении одного и того же изобретения или открытия. Схожими процессами в общественном сознании расы — более фрагментарном в своих сведениях, более рудиментарном по своим возможностям и более неопределенном по своим результатам — объясняется возникновение таких верований и институтов, как тотемизм, экзогамия и многие очистительные ритуалы у самых изолированных народов в самых изолированных частях света»{27}.