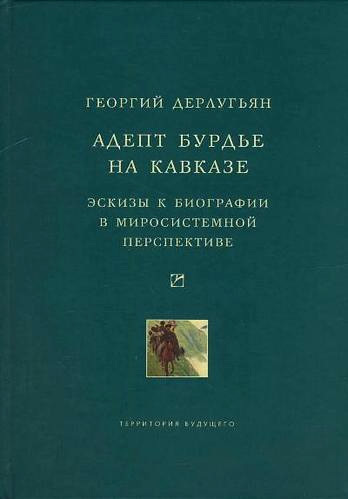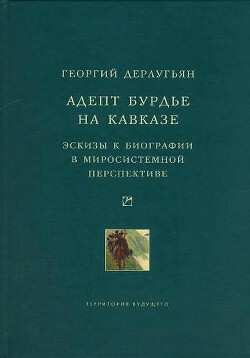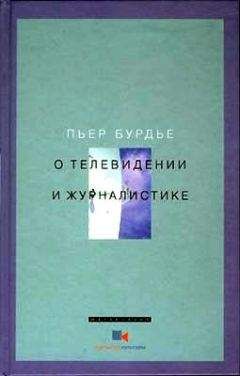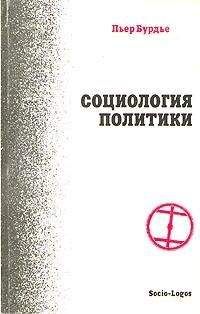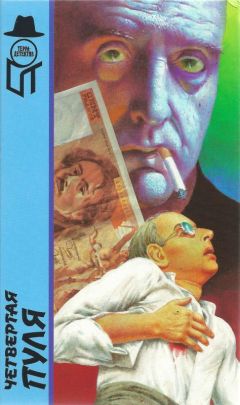стола и покинуть компанию. Да и телохранитель Шанибова молча и все также строго, безучастный к пирушке, засел у двери эдакой кавказской скалой, прямо-таки персонажем из Лермонтова или Толстого.
Мы провели за столом уже несколько часов и, признаться, под все новые тосты изрядно выпили довольно скверной водки, когда, пытаясь задать очередной наводящий вопрос, я допустил, строго говоря, методологическую оплошность. Считается, что антропологам и социологам, работающим в поле, не следует говорить с информантами на своем профессиональном жаргоне. Отчасти это профессиональное высокомерие («Они – рыба, мы – ихтиологи»), в основном же все-таки дельное предписание не давить на собеседников ученостью. Но то ли здесь все-таки была университетская кафедра, то ли я достаточно захмелел, однако с языка нечаянно слетели знаковые для посвященных, но бессмысленно заумные для нормальных людей слова «культурный капитал» и все тот же габитус. Реакция Шанибова оказалась поразительной. Через разделявший нас стол он вдруг потянулся, чтобы обнять меня: «Наш дорогой гость! Мой армянский брат! Конечно, габитус! Вот теперь я ясно вижу, что Вы никакой не шпион. Простите нас за подозрения, но Вы оказались настолько в курсе местных дел, что моя безопасность не могла понять – то ли Вы, как человек, приехавший из Америки, работаете на ЦРУ, то ли Вы и Ваш друг, как уроженцы Краснодара, все-таки, наши, чекисты. Но теперь я, ясно вижу, что Вы настоящий, социолог, так как Вы знаете труды Пьера Бурдье!»
Я упал на свой стул: «А Вы?»
«Я?! – воскликнул Шанибов с бьющим через край энтузиазмом. – Если, хотите знать, Бурдье я. внимательнейше проштудировал, еще в госпитале, после ранения, в Абхазии,».
Похоже, длительное застолье со множеством спиртного было средством развязать мне язык и узнать о моих скрытых намерениях. Что Шанибову вполне удалось. Он вышел из-за стола и увлек нас по коридору и лестницам, как оказалось, в свой маленький кабинет за железной дверью. В более мирной ипостаси, о чем никто нас не предупредил, наш экзотично одетый хозяин оказался преподавателем в том же Кабардино-Балкарском университете и специалистом по социологии молодежи. Он открыл сейф и предъявил нам доказательство: изрядно потрепанную книгу Бурдье, вдоль и поперек испещренную пометками владельца. В глубине сейфа я заметил и другой документ – цветное фото Шанибова в окружении бородатых боевиков, одним из которых был Шамиль Басаев. Перехватив мой взгляд, Шанибов вздохнул: «А, да, это он, Шамиль, во время, войны в Абхазии,». После паузы он добавил: «Тогда он еще меня, слушался».
Когда я спросил разрешения заснять Шанибова на фото, он согласился, однако неожиданно предложил: «Когда вернетесь на Запад, пожалуйста, покажите это фото Бурдье и передайте, как мы здесь высоко ценим его труды». Я ответил с чувством неловкости, что возвращаюсь в Штаты, а не во Францию, а, кроме того, в Париже не бывал и вовсе не знаком с Бурдье. Однако Шанибов продолжал настаивать: «ну, все равно, ведь едете на Запад».
Превращения социального капитала
По здравому рассуждению, не было ничего удивительного в этом случайном открытии научных и интеллигентских ипостасей перестроечного политика и известного националиста Юрия (он же Муса) Мухамедовича Шанибова. Как и повсюду в период посткоммунистических национальных столкновений на Кавказе, в Центральной Азии или бывшей Югославии, среди поколения вождей национальных революций и полевых командиров мы обнаруживаем множество представителей творческой и научной интеллигенции времен позднего госсоциализма.
Ставший президентом Грузии шекспировед Звиад Гамсахурдия был вскоре низложен скульптором-модернистом Тенгизом Китовани и кинокритиком Джабой Иоселиани; Абхазию в годы войны за независимость от Грузии возглавил исследователь древнеантолийской мифологии Бронзового века доктор наук Владислав Ардзинба; руководство революционного режима Азербайджана в 1992–1993 гг. едва не полностью вышло из Национальной академии наук, и даже точнее – из физиков и востоковедов; президент Армении Левон Тер-Петросян прежде был хранителем средневековых манускриптов, а его одиозный министр внутренних дел Вано Сирадегян прежде писал рассказы для детей.
Сам по себе интеллектуализм еще не дает объяснения. Тенденция внесения в политику после подрыва номенклатурной монополии различных форм накопленных в ходе предыдущей карьеры элитных социальных навыков и символического капитала не менее показательна на примере пяти генералов, ставших во главе национальных мобилизаций на Северном Кавказе: чеченца Дудаева, ингуша Аушева, балкарца Беппаева, карачаевца Семёнова и дагестанца Толбоева (последний готовился стать космонавтом и, в конце концов, вернулся к своему призванию, уйдя из все более опасной дагестанской политики в российскую космическую промышленность). Если кому-то покажется, что эта тенденция присуща лишь якобы анормальному постсоветскому пространству, то стоит вспомнить хотя бы карьеру губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.
Тот же принцип относится и к харизматическим бизнесменам постсоветской эпохи, силой и деньгами расчистившим себе путь ко власти – подпольному миллионеру и потомку княжеского рода Аслану Абашидзе в Аджарии, более подробно описываемой в седьмой главе; Сурету Гусейнову, сыну кировабадского цеховика-ковровщика и, как утверждается, торговцу наркотиками и оружием, на краткий срок в 1993 г. ставшему контрреволюционным премьер-министром Азербайджана; Кирсану Илюмжинову, первым на европейском пространстве провозгласившему буддизм государственной религией в Калмыкии; ныне покойному черкесскому «водочному королю» Станиславу Дереву; либо сибирскому золотопромышленному магнату Хазрету Совмену, неожиданно обошедшему на выборах в родной Адыгее прежнего номенклатурного ветерана.
Биография Шанибова очевидным образом совпадает с путем, которым за прошедшие десятилетия прошли многие интеллектуалы Восточной Европы и Третьего мира. Везде, где посткоммунистическая демократия имела успех, мы видим на вершине власти кинорежиссеров, музыкантов и ученых. Так почему же критически настроенный социолог Шанибов не мог, подобно чешскому драматургу Гавелу или русскому физику Сахарову, стать диссидентом и поборником либеральной демократизации?
На самом деле траектория Шанибова оказывается намного интереснее и показательнее для менявшегося климата эпохи, потому что Шанибов вошел в политику уже немолодым человеком, прожившим довольно напряженную жизнь. Шанибов еще успел побывать в ранней молодости искренним сталинистом, затем клубным работником (читатели, знакомые с советской классикой, припомнят обстановку молодежного энтузиазма в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь») и активным реформатором хрущевских времен. После символичной даты 1968 г. Шанибов у себя на малой родине оказывается в роли, насколько это было возможно в условиях глубокой провинции, приближенной к образу интеллектуала-диссидента. В годы горбачевской перестройки он искренне пытался следовать примеру и либерально-демократическим, глубоко западническим идеалам академика Сахарова. Что важно подчеркнуть, Шанибов обратился к радикальному национализму лишь после развала СССР – то есть только тогда, когда надежды на демократизацию и быстрое равноправное вхождение Советского Союза в Европу были утеряны и множество местных «смут» вспыхнуло на руинах советской империи. Это и увязывает историю Мусы Шанибова с нашим главным вопросом – как, где именно и почему конечная фаза