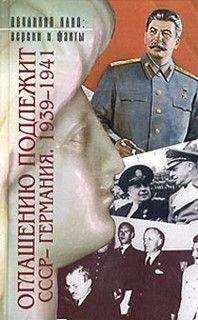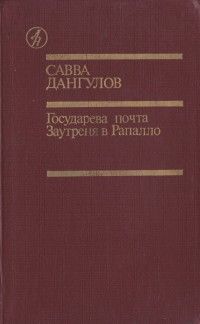историческими аналогиями, Сталин, по аналогии с событиями 1918–1919 гг., был абсолютно убежден, что в случае иностранного нападения на СССР «сценарий повторится». Он даже проигрывал в уме ситуацию за противную сторону. «Прорваться к Ленинграду, – делился Сталин своими опасениями на Главном военном совете РККА 17 апреля 1940 г., – занять его и образовать там, скажем, буржуазное правительство, белогвардейское – это значит дать довольно серьезную базу для гражданской войны внутри страны против Советской власти» [54] [46, док. № 6].
Мысль о том, что крестьянство, т. е. 80 % населения, если и не восстанет на большевистский режим, то, как минимум, не станет защищать его в случае нападения извне, была для коммунистической номенклатуры общим местом. Приведем всего несколько фактов и выдержек из подготовленных для партийного начальства сводок ОГПУ о настроениях крестьянства в 1927 г. в дни так называемой «военной тревоги». [55]
Так, в деревне Бельково Владимирской губернии из 1043 жителей на собрание «Недели» пришли 16 человек. В другой деревне из 80 явившихся за резолюцию, предложенную властями, проголосовали 16 человек. Резолюция деревенского схода в Иваново – Вознесенской губернии относительно взносов в «Фонд обороны»: «Воевать не хотим, поэтому от всяких пожертвований отказываемся». В 1927 г. пленум ЦК ВКП (б) признал: «Нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии – крестьяне, не будут добровольно драться за социализм», т. е. за государство сталинской диктатуры. Обитатели Кремля прекрасно помнили, что в 1917 г. отказ армии воевать с внешним врагом за победу правящих классов свалил два режима – царский и временный, и стал прологом к гражданской войне в России.
Более того, перспектива иностранной интервенции вселяла в крестьян надежду на избавление от коммунистического засилья: «Скоро будет война, и тогда начнем бить коммунистов и комсомольцев…»; «Война неизбежна, но на нас пускай коммунисты не надеются – воевать не пойдем»; «Как только откроется война, то мы красным войскам будем стрелять в тыл»; «Казачество округа (Вийский округ Астраханской губернии. – Ред.) живет надеждой на скорую войну и переворот: «Только бы вспыхнула война, дали бы нам оружие, мы бы знали, что делать». Подобных свидетельств многие и многие тысячи хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории.
Если такими были настроения деревни даже в относительно спокойном и сытном, по советским меркам, 1927 году, то в ответ на кампанию 1928–1932 гг. по насильственному изъятию хлеба и колхозному закрепощению крестьян их протест принял форму активных антиправительственных выступлений. [56] Согласно данным ОГПУ в 1928 г. таковых было 1027, в 1929 г. – 1307, а в 1930 г. – уже 13754, в которых только в январе-апреле приняло участие порядка 2,5 млн. человек. 176 из этих выступлений характеризовались как «ярко выраженные повстанческие». Отряды повстанцев действовали в Киевской, Воронежской, Орловской и Брянской областях, на Ставрополье, Кубани и Дону, в горном Дагестане и многих областях Казахстана и Средней Азии, в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке. Росло также число терактов: с 9093 в 1929 г. до 13754 в 1930-м. Только в 1930 г. органы ОГПУ привлекли по делам об участии в антиправительственных выступлениях 179620 человек, 20 тысяч из которых были расстреляны (без учета арестованных и расстрелянных по Казахстану и Восточно-Сибирскому краю) [43, с. 787–788]. Мирный протест принял форму почти полного изгнания крестьянами коммунистов из низовых советских органов, включая и уездные, которые находились в пределах их политической досягаемости. [57]
Напуганный размахом этих выступлений, в начале марта 1930 г. Сталин дает коллективизаторскому шабашу «задний ход» публикацией статьи «Головокружение от успехов», приоткрывшей возможность выхода крестьян из ненавистных колхозов. Объясняя необходимость этого шага, в секретном циркулярном письме в начале апреля 1930 г. ЦК ВКП (б) сообщал: «Если бы не были незамедлительно приняты меры […] мы бы имели теперь волну повстанческих крестьянских выступлений, добрая половина наших «низовых» работников была бы перебита крестьянами, был бы сорван сев, было бы подорвано колхозное строительство и было бы поставлено под угрозу наше внутреннее и внешнее положение». Продолжение ошибочной политики, говорилось в письме, ведет к превращению антиколхозных выступлений в антисоветские, а широкое применение армии в борьбе с крестьянским протестом сказывается на ее лояльности властям [43, c. 365–370].
Действительно, в 1932 г. особыми отделами ОГПУ в частях Красной Армии было зафиксировано свыше 300 тысяч антисоветских высказываний, в 1933 г. – почти 350 тысяч, из которых 4 тысячи носили характер угроз повстанческой деятельности. В 1932 г. эти угрозы материализуются, например, в ходе очередного восстания на Кубани, к которому присоединяются и красноармейцы. Роптали отнюдь не только «нижние чины»: в 1933 г. в антисоветских высказываниях были уличены свыше 100 тысяч командиров и воинских начальников [2, c. 896]. Картина станет понятней, если учесть, что в то время численный состав армии, флота и авиации составлял 604 тыс. человек. Как отмечал историк В. П. Попов, «для солдатской массы, вышедшей преимущественно из крестьян, неизгладимой осталась жестокость насильственной коллективизации и раскулачивания. Многие военачальники Красной Армии разделяли подобные настроения…» [44, с. 85]. Не на стороне коммунистического режима были симпатии и другого контингента офицерского корпуса – пошедших по различным причинам на службу к большевикам офицеров императорской армии.
Вообще говоря, мы ничего не поймем в мотивах принятия Кремлем тех или иных внешнеполитических решений, не учитывая внутриполитического положения в стране и состояния ее вооруженных сил. Между тем, в работах отечественных авторов по истории международной деятельности СССР эти наиважнейшие аспекты проблемы упорно не замечаются и потому остаются неосознанными широким читателем. Это касается и ранее упомянутого нами основополагающего факта: с середины 20-х по середину 30-х годов у Сталина фактически не было армии. Не держа этого факта в уме, не понять, например, причин паники, охватившей режим в недели «военной тревоги» 1927 г., и последовавших за этим серьезных корректив в международной деятельности СССР. Как и того, почему именно в 1932 г. Москва в авральном порядке заключает договоры о ненападении с Францией, Польшей, Финляндией, Эстонией и Латвией. В этом ключе надо рассматривать и отношения внутри треугольника СССР-Германия-западная коалиция.
В подтверждение приведем два свидетельства, по времени окаймляющие интересующее нас десятилетие. Первое из них – заключение комиссии ЦК РКП (б), изучавшей в начале 1924 г. состояние РККА. В заключении отмечалось: «Красной Армии как организованной, обученной, политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами силы у нас нет. В настоящем виде Красная Армия небоеспособна» [цит. по: 47, c. 301]. Через десять лет, осенью 1934 г., в резолюции, принятой по докладу наркома обороны Ворошилова, Политбюро признало, что «без радикального устранения объективных причин, создающих непроходимую пропасть между советской властью и многомиллионной массой крестьянства, невозможно положиться не только на мобилизуемую в случае войны РККА, но даже на ее основное кадровое ядро» [Цит. по: 50, с. 458].