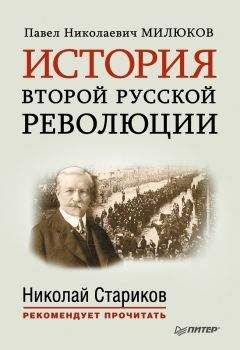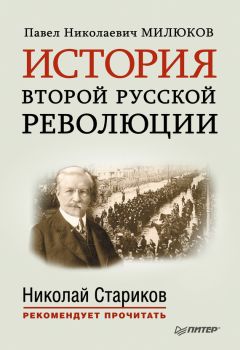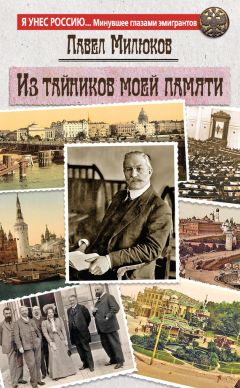65
Керенский в доказательство заблаговременной подготовки заговора показал в следственной комиссии (с. 186): «Я знал, что идет подготовка аграрного манифеста или закона; не помню фамилии этого профессора из Москвы». Председатель комиссии тогда назвал эту фамилию: Яковлев.
Ср. Дело Корнилова, с. 117, Аладьин обращался к кн. Львову между 16 и 21 августа «с просьбой устроить ему, Аладьину, свидание по исключительной важности делу». Хотя князь Львов отказался это сделать, но Аладьин, уходя, сказал, что «будет столько-то дней ждать ответа в Национальной гостинице», причем подчеркивал, что он «из Ставки» и «совершенно серьезно» говорил: «Пусть Керенский имеет в виду, что впредь никаких перемен в правительстве без согласия Ставки не должно быть» (с. 185). Очевидно, Аладьин имел такую же миссию, что и В. Н. Львов, и Керенский, быть может, прав, что Львова употребили для этой миссии именно потому, что Аладьину не удалось проникнуть к Керенскому (см. с. 117).
Эта последовательность мысли Львова очень близко соответствует тому, что Львов 22 августа говорил В. Д. Набокову (см. выше).
Дело Корнилова, с. 488.
«Совершенно лично» передали только приглашение в Ставку.
Считать обвинение доказанным.
Дело Корнилова, с. 122. Этот разговор еще раз подтверждает, что об отставке Корнилова А. Ф. Керенский еще ничего не говорил Львову.
В своих показаниях, очень уклончивых по отношению к данному случаю, Керенский мотивирует свое предложение «предоставить ему некоторую свободу действий» существовавшими ранее разногласиями в министерстве (с. 131); «перед этим были уже довольно трудные взаимоотношения внутри Временного правительства. А теперь, при создавшейся обстановке, едва ли могли быть быстро приняты все нужные меры. Не было сплоченности и солидарности в правительстве. В особенности затрудняла популярность Кокошкина и Чернова. Это были элементы, которые едва ли могли действовать и даже быть вместе в тот час».
В следственной комиссии возник вопрос, в какой момент заседания произошло увольнение в отставку Корнилова: до или после отставки министров. В последнем случае постановление было бы незаконным, ибо увольнение верховного главнокомандующего возможно только указом правительства. Поэтому и Керенскому пришлось утверждать, что увольнение Корнилова «было предложено и принято до вручения мне отставок». Но в доказательство он мог только привести слова: «Это несомненно. Я сделал доклад и соответствующий из него вывод» (с. 136-137). На прямые вопросы, «был ли указ правительства» и «как была редактирована телеграмма», ему пришлось ответить, что он «не может сказать, было ли постановление тут же записано», ибо «было бурное заседание», что телеграмма была наспех составлена, не внесена в исходящий журнал и что текст ее не имеется налицо. Мы увидим далее, что сопротивление Корнилова мотивировалось отчасти тем, что телеграмма была без номера, без указания на то, что это есть постановление правительства и что под ней была простая подпись «Керенский» без обозначения его званий. Из изложенного в тексте видно, что постановление об отставке Корнилова едва ли могло быть принято до отставок министров, так как это был первый в ряду вопросов, вызывавших сами отставки. Министры, подавшие в отставку, в особенности два министра к.-д., заявившие категорически, что отставки их окончательные, очевидно, не желали нести ответственность за действия Керенского по подавлению «мятежа». По признанию самого Керенского, на этом заседании «вообще говорилось о чрезвычайно серьезной обстановке и явном непонимании Корнилова, попытке ниспровержения Временного правительства», но он не помнит, упоминалось ли слово «мятеж» (с. 131).
После категорического запрещения говорить с Корниловым в ночь на 27-е Савинкову «была предоставлена возможность» разговаривать, «и он говорил целый день», иронизирует Керенский. Спасая свою непримиримую позицию, Керенский поясняет, что «предлагал им (сторонникам переговоров) самим вести переговоры с генералом Корниловым» лишь в том смысле, что просил их оказать на него возможное воздействие, для того чтобы он подчинился Временному правительству, пока еще не поздно, полагая при этом, что они «исходят только из предположения о добросовестном заблуждении генерала Корнилова» (с. 129, 150).
На вопрос председателя следственной комиссии Керенскому, «предупреждал ли вас Савинков, что предположено объявление Петрограда на военном положении поставить в зависимость от приближения 3-го корпуса к Петрограду», Керенский отвечал довольно сбивчиво: «Так было, но я говорил, что для меня никакого значения приближение корпуса не имеет, что я нахожу это ожидание совершенно излишним, что эта мера необходима ввиду изменившейся обстановки и что объявление военного положения возможно, не ожидая никакого прихода. Таким образом, я мнение Савинкова оспаривал (но принял). В правительстве этот частный вопрос не обсуждался».
Приготовления немцев к высадке десанта на побережьях Рижского залива, убийство начальника N. дивизии и комиссара N. армии, телеграмма о количестве уничтоженных при взрыве в Казани снарядов и пулеметов.
По сообщению Керенского (с. 128), после разговора с Корниловым Савинков около 8 часов вечера идет в Зимний дворец и настаивает на необходимости «испробовать исчерпать недоразумение и вступить с генералом Корниловым в переговоры (очевидно, в том смысле, который отрицался Керенским)».
Сам Керенский, исходя из своего «обращения» к населению 27 августа, утверждает (с. 132): «В ночь на 27 августа я получил не всю полноту власти, а только определенные полномочия для разрешения определенной задачи — скорейшей и безболезненной ликвидации корниловского выступления». (Во всяком случае, вопрос о «переговорах» входил именно в эту категорию.)
Воззвание к железнодорожникам изложено в следующих выражениях: «Железнодорожники, судьба России в ваших руках. Вы помогли в свое время свергнуть старую власть. Вы должны отстоять завоевания революционной России от темных посягательств военной диктатуры. Ни один приказ, исходящий от генерала Корнилова, не должен быть вами исполнен. Будьте бдительны и осторожны, творите единственно волю Временного правительства, волю всего народа русского. Министр-председатель Керенский».
На вопрос следственной комиссии о «роли Некрасова» и судьбе депеши Керенский отозвался запамятованием (с. 153): «Не помню». «Я помню, что телеграмма, которая должна была идти на радио, была задержана просто потому, что мы считали, что не следует чрезмерно возбуждать общественное мнение и настроение». В прибавленном к этим показаниям комментарии Керенский называет толки о «роли Некрасова» «одним из злобных вымыслов в деле Корнилова», но, «перебирая эти «вымыслы» про Некрасова, не опровергает тех фактов, которые изложены в нашем тексте.
См. выше разговор Корнилова с Савинковым 23 августа в Ставке.
Керенский мотивировал этот отказ тем, что «при создавшихся условиях никаких посредничеств, никаких поездок для урегулирования не может быть, так как вопрос перешел в совершенно другую стадию» (с. 149).
В комментариях к своим показаниям («Дело Корнилова», с. 142–145) Керенский умалчивает об этой части нашей беседы и излагает ее следующим образом: «Милюков явился ко мне с предложением посредничества и с заявлением, что вся реальная сила на стороне Корнилова»... Приведя затем показание генерала Алексеева об этом свидании, Керенский продолжает: «Я должен сказать, что тогда у меня в кабинете генерал Алексеев все время молчал, за исключением нескольких слов о положении фронта при создавшемся безначалии, и для меня даже было не совсем ясно, зачем он присутствовал при моем объяснении с М. Во всяком случае в 3 часа дня 28 августа мне и в голову не приходило, что передо мной сидят не только единомышленники, но еще единомышленники, являющиеся ко мне с некоторого собрания, как я потом узнал (из изложения в тексте видно, что надо понимать под этими таинственными намеками). Едва ли нужно говорить, что на ту мотивировку необходимости продолжать переговоры, которая изложена в показаниях генерала Алексеева, в разговоре со мной Милюков ни разу даже не намекнул, ибо, если бы это случилось, то ему... не пришлось бы свою беседу довести до конца (вероятно, К. подразумевает здесь слова Алексеева: «Так как представлялось весьма вероятным,что в этом деле генерал Корнилов действовал по соглашению с некоторыми членами Временного правительства и что только последние дни 26–28 августа это соглашение было нарушено или народилось какое‑то недоразумение»). Милюков аргументировал интересами государства, патриотичностью мотивов выступления генерала Корнилова, заблуждающегося только в средствах и, наконец, как ultima ratio (последний довод) он привел мне решающий, по его мнению, и реальнейший довод — вся реальная сила на стороне Корнилова (в действительности я вовсе не был уверен в успехе Корнилова и лишь вернул Керенскому его довод, иронически направленный к партии народной свободы).