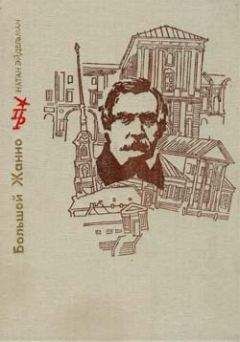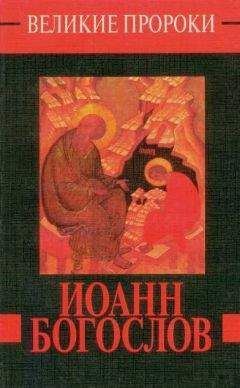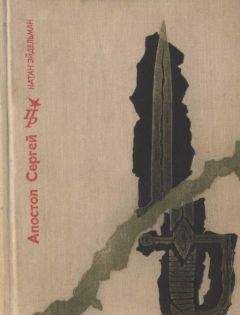— Есть Россия, — вступил я. — Народ, который ждет коренного преобразования своей жизни. И разве не рыцарский поступок — дать свободу крестьянам, бескорыстно вручить власть народным представителям, раздробить аракчеевские тюрьмы (о том, как Милорадович смотрел на Аракчеева, мне было хорошо известно).
Аракчеев, между прочим, несколько раз унижал Милорадовича, заставляя до получаса ждать в своей приемной. Зато, узнав о приближении аракчеевского адъютанта, Милорадович держал его у дверей своего кабинета ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы выскочить с черного хода на Мойку — и умчаться подальше. Е. Я.
Генерал остановил свою проповедь и дал понять, что слыхал не раз эти мотивы и знает — кто их напевает.
— Более того, господа; вы заявлены, и крепко заявлены. Сегодня прибыл из Таганрога пакет от Дибича. Не могу сообщить вам многого, но в бумагах покойного императора документы насчет обширного заговора, а также имена заговорщиков. Ваши, может быть… И вдобавок кто-то из ваших только что раскрыл Николаю Павловичу петербургские замыслы, ибо я не далее как за час до вашего прихода получил строжайшее приказание — наблюдать и выяснять…
Мы молчали, не зная, как закрутится беседа.
— Однако вы ведь понимаете, господа, что не таков я, чтоб отличаться подобными проделками. А вы это понимаете, иначе вряд ли ко мне бы явились… Я никого не выслеживаю, мне дела нет, о чем толкуют офицеры за пирушкой…
Тут граф встал и сунул босые ноги в туфли:
— Сегодня день рождения моего императора (и он со слезой кивнул портрету Александра); ему было бы 48 лет, имена заговорщиков — в его бумагах. Однако бумаги лежали давно — и, стало быть, покойный государь не счел нужным распорядиться… Он многое знал, и давно знал, и мне кое-что говорил: наблюдать, но не забирать никого, кроме явных злоумышленников, собирающихся действовать. Он не велел арестовывать. Он один мой император, ибо Константин — не желает, а Николаю я еще не присягал. Посему — не мое дело!
Но, господа, и с вами не пойду. Увольте! Нет настоящей цели. Дожил: не за кого Милорадовичу умереть!
Не могу с Николаем, но и против него уже все, что мог, употребил. С той минуты, как присягну, — слуга покорный… Я солдат — не мятежник. И вам не советую: в лучшем случае по вашей крови на престол всплывет кто-нибудь из предводителей ваших, я же для таких проделок стар.
C'est ne pas chevaleresque. Это не по-рыцарски.
И вдруг, опять обняв меня, вспомнил: «Вы же товарищ Пушкина — поэта; я когда-то сказал ему: «C'est chevaleresque», — вот и вспомнил сейчас: это по-нашему, по-рыцарски — когда он сам откровенно, без разных там пелендрясов, написал мне все свои стишки…»
— А Ваше сиятельство еще спросили его, почему столь мало в тех стишках досталось сенаторам?
Милорадович захохотал: «Ничего не секрет! А как Пушкин? Тоже заговорщик?»
— В деревне, слава богу, в ссылке, — отвечал Глинка. — А что касается заговора, то ведь овцы стадятся, а лев ходит один.
Эту Глинкову присказку мы хорошо знали, и он ее по поводу Пушкина не в первый раз отпускал (впрочем — без связи с тайным союзом). Мне, помню, все же досадно сделалось и едва удержался, чтобы не поведать, как Пушкин обижался на меня за то, что я его не пригласил «стадиться». А насчет chevaleresque — так ведь один или два стиха Александр Сергеевич графу все же не открыл. И вот бы сейчас припечатать?
Милорадович торопился во дворец, разговор шел быстрый, ясный. Впрочем, многие очень важные разговоры происходили в моей жизни именно на ходу, между делами; всерьез усевшись друг против друга, редко договариваются до главного…
Но вот что хорошо помню — это слова графа на прощание:
— Доносчиков не терпел и не терплю. Вас ловить не стану, пока мне император не прикажет!
Император он выговаривал с особенным значением, из чего следовало, что сегодня по крайней мере в Русском государстве император отсутствует…
Последние слова были: «Николай, да еще вы с вашим заговором…» И махнул рукой в том смысле, что пропади все пропадом…
Я понял — ему все едино. Он не желал ни нам, ни себе никаких успехов. Милорадович уехал — в мундире при шарфе; в белых панталонах, с андреевской лентой через плечо — на груди десятка три звезд и крестов.
Рыцарство кончилось.
«Львиного сердца, крыльев орлиных нет уже с нами! — что воевать?»
Генерал и я еще один раз свиделись — догадываетесь, конечно, при каких обстоятельствах?
16 октября 1858-го и 13 декабря 1825-го
А теперь, мой друг, настал час представить вам нечто сокровенное — мысль недавнюю, можно сказать, вчерашнюю (хотя сегодня кажется мне, что всю жизнь так думал…). Может быть, нижеследующее и сочтете горячкой умирающего.
Недавно тут, в Петербурге, навестил меня Владимир Иванович Штейнгель, и я его первого угостил более или менее связно всей моей галиматьей. Зная его нынешнее кроткое, религиозное расположение духа, я, по правде говоря, ожидал одобрения. Но Штейнгель мой вдруг заспорил, даже взъярился и обозвал меня двойным грешником (за что — после объясню).
А сейчас начну не торопясь исповедоваться. Как раз сижу у окна на Мойку, а по ней листья плывут осенние — и всего лишь сорок седьмые листья с той осени, как я перебрался из отчего дома — в наш, лицейский.
Скоро 19 октября, наш праздник, а я ведь не бывал на нем 35 лет.
Как видишь, носит меня не только по миру, но и по времени. Как быть? Жалко уходящего. И все хотелось бы на прощание сбегать в ту осень 1811-го, — но нельзя. Пора в декабрь 25-го.
Теперь слушай — да вникай (как говаривал все тот же наш славный Иван Кузьмич).
13-го, воскресенье — этот день вижу будто в тумане. Обедал дома, и отец торжественно прошептал, что вечером их собирают.
Я, вероятно, в лице переменился, так как сестры засуетились, а брат Миша выскочил из комнаты.
Помню, очень помню — прошел по спине холод, как при хорошей музыке. И не то чтоб я был рад или не рад. Но помню, сколь тяжким в те дни было ожидание, как мечтал отделаться поскорее — чтоб не было уж выбору.
И вот на тебе — нет выбора! Сенаторов собирают, — значит, завтра новая присяга! Впрочем, в те минуты, за последним спокойным домашним обедом, я еще не угадал всей природы того холодка, что меня посетил; а вот теперь, кажись, уразумел (или придумал?).
Ах, Евгений, передо мною будто хроника.
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток…
Нет, друг, не жди связного рассказа о деле 14 декабря: он уже в ваших руках, составленный не чужими людьми.
Краткий очерк восстания на Сенатской площади под названием «Четырнадцатое декабря» написал мой отец со слов участников дела — самого Ивана Ивановича Пущина и Евгения Петровича Оболенского. Е. Я.
Однако та, записанная история — ну как бы сказать? — сделана отчасти константиновским способом: ведь Константин Павлович, прочитав Карамзина, был, говорят, рассержен рассуждениями и отступлениями нашего историографа: в истории, дескать, имена, даты, факты, ничего более и не надо!
Вот и мы сперва не то чтобы следовали совету Константина, но все же сушили повествование… не считали сколько-нибудь занятным то, что происходило в душах и мозгах наших. Мы даже нарочно просили написать отца вашего, как сравнительно беспристрастного и в день 14 декабря находившегося далеко от столицы.
А вот теперь, Евгений, самое время все рассказать по порядку.
Начну с того, что вздумал я сосчитать, сколько верных шансов было нами упущено 13 и 14 декабря? Сколько козырей пропущено, которыми если и не вся игра, то уж немалый выигрыш обеспечивался?
И вышло у меня, что не менее десятка раз, а по сути — и того более могли бы выиграть, но не выиграли.
Вот, суди сам, давай вместе считать.
Последний вечер у Рылеева: приходим, уходим, складываем в уме желаемые роты, полки — и я слышу слова Булатова: «Мало будет — не выйду»; помню согласное выражение лиц у Трубецкого, Якубовича, Щепина-Ростовского: то есть зря рисковать не будем!
— Да сколько же вам надо войска? — спрашивает Рылеев. Булатов объясняет, что нужно тысяч шесть, в том числе кавалерию, пушки.
Рылеев считает на пальцах, каждый палец — тысяча: вроде бы получается больше, чем шесть тысяч, и он повторяет пароль «честь, польза, Россия».
Я же просидел весь вечер молча (во фраке! К тому же, кроме самого себя и родного брата, обязавшегося выйти, если пойдут измайловцы, я никого не могу привести),
И вот Рылеев доказывает, что есть войска, а я слышу в его словах — нету!
Это мне чудится — или он сам так думает? Позже, когда Булатов и Трубецкой уйдут, слышу рылеевское: «А все-таки надо! »
Вот эта фраза всю жизнь меня сопровождает. «А все-таки надо». Почему надо — ясно, но что означает все-таки?