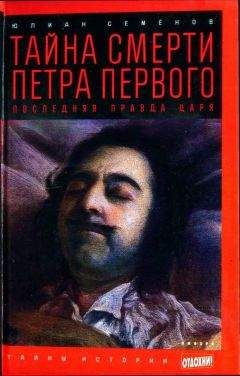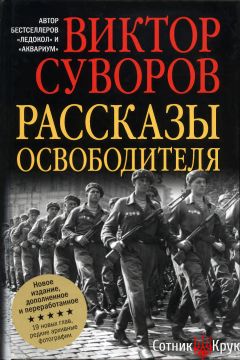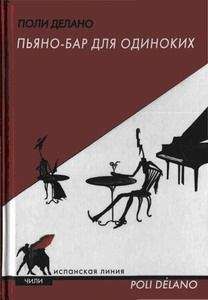(Именно тогда Герасимов впервые подумал, что министр Дурново еще меньше готов к новому этапу развития России, чем он сам.)
Мин прославился кровавым террором; восстание подавил; был переведен в свиту его императорского величества; началось стремительное восхождение новый любимец государя; Герасимов закрыл глаза на то, как Азеф готовил акт; пусть; эсерка Зинаида Васильевна Коноплянникова убила его на платформе железнодорожной станции Новый Петергоф; на допросах молчала; повесили в Шлиссельбурге.
Рассказав Герасимову в лицах о прошедшем только что заседании ЦК, Азеф много смеялся, шутил, пил стакан за стаканом, потом вдруг тяжело обвалился на хрупкую спинку ампирного диванчика и, протрезвев, тихо сказал:
- А ведь за мною смерть каждый миг ходит... Я ее вижу, когда резко оборачиваюсь... И всегда в разных обличьях: то Сазонов, то Яцек Каляев, то Зиночка Коноплянникова... Брошу я все, полковник, брошу и уеду за границу, силы на исходе...
Тем не менее Азеф задание выполнил; начал готовить а к т против Столыпина; Герасимов поставил молодых филеров наблюдать за всеми участниками боевой организации; дал приказ п р и л е п л я т ь с я к объекту и не отступать ни на шаг; боевиков это повергало в смятение; началось, как и полагал Герасимов, брожение; Азеф нажимал: "В нужный миг мы оторвемся от слежки, подвижничество угодно революции, кровь врага - очищение России; если потребуется отдать жизнь - я первым отдам ее во имя революции"; деньги тратил не считая; примерно третью часть переводил в Италию, на свой счет; Савинков, чудом бежавший из камеры смертников севастопольской тюрьмы, первым открыто сказал, что акт целесообразнее отменить; следует продумать новые методы борьбы с самодержавием, выработать стратегию, отвечающую нынешнему моменту.
Через месяц Герасимов передал Столыпину - для доклада государю - запись решения ЦК о временном роспуске боевой организации и п р и о с т а н о в л е н и и исполнения смертного приговора премьеру.
Столыпин доложил государю о "поразительной по своему мужеству" работе Герасимова; тот пожелал увидеть "героя".
Переступив порог монаршего кабинета, Герасимов - впервые в жизни - ощутил сладостный ужас; его потрясла молодость царя, всего тридцать шесть лет; на всю жизнь запомнил малиновую куртку офицера стрелкового полка, шелковый кушак такого же цвета, короткие темно-зеленые шаровары и очень высокие сапоги.
Подивился такту самодержца: согласно дворцовому церемониалу, полковник не имеет права сидеть в присутствии августейшей особы, даже если бы государь соизволил его пригласить в кресло; не пригласил, но и сам не сел; всю полуторачасовую беседу провели стоя возле окна.
- Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию, полковник? Велика ль опасность? Почему нельзя было предотвратить покушение на фон дер Лауница и незабвенного Мина так же, как вы сейчас предотвратили покушение на Петра Аркадьевича?
- Одной из главных помех, ваше величество, - ответил Герасимов, - является свободная конституция, предоставленная год назад Финляндии. Именно там засели ныне террористы, там у них склады оружия, явки, конспиративные квартиры... А ведь это всего в двух часах езды от столицы... Финская полиция относится к нам враждебно... Работать невероятно трудно...
- Какая досада, - откликнулся государь. - Я завтра же переговорю с Петром Аркадьевичем, что можно сделать, дабы положить конец такому невыносимому положению...
- Да и Польша, ваше величество... Необходимо еще больше ужесточить меры охраны порядка в Привислинском крае...
- Но ведь это легче сделать, чем в Финляндии, - ответил государь. - Если же будут какие затруднения, делу легко помочь, подготовьте записку Столыпину, он ее рассмотрит благожелательно...
Герасимов ликовал: генеральские погоны - вот они, рядышком, протяни руку твои.
...Назавтра Столыпин сказал, что государь соизволил отметить в кругу министров: "Герасимов тот именно человек, который находится на настоящем месте".
- Поздравляю, Александр Васильевич, - улыбнулся Столыпин, - готовьте генеральский мундир.
Однако же именно после аудиенции у царя все, кто был вхож в Царское Село, начали ж е в а т ь полковника: "болтун, красуется, сулит мир и благоволение, а террор по-прежнему процветает в империи"; представление Столыпина о присвоении ему генеральского звания оказалось под сукном; началась обычная дворцовая интрига; пересуды, советы со старцами; застопорило.
Столыпин утешал - "пробьем"; был счастлив, когда Герасимов арестовал максималистов, отколовшихся от Азефа; те, во главе с Зильбербегом, действительно таились в Финляндии; агентура - после того как Герасимов получил свободу поступка - легко их в ы т о п т а л а; схватили, повесили в крепости; он же, Петр Аркадьевич, отправил шифрограмму и в Варшаву: "По высочайшему повелению требую безжалостно уничтожить все оставшиеся очаги революции; применять крайнюю степень устрашения".
По всей Польше началась новая волна повальных арестов, обысков и облав.
В одну из таких и попал Дзержинский; борьбу против Азефа продолжал из камеры Варшавской цитадели... "Вот почему революция неминуема!"
"Всего две недели я вне живого мира, а кажется, будто прошли целые столетия...
Сегодня я получил эту тетрадь, чернила и перо. Хочу вести дневник, говорить с самим собою, углубиться в жизнь, чтобы извлечь из этого все возможное и для самого себя, а может быть, хоть немного и для тех друзей, которые думают обо мне и болеют за меня душой.
Завтра Первое мая. В охранке какой-то офицер, сладко улыбаясь, спросил меня: "Знаете, что перед этим праздником мы забираем очень много ваших, Дзержинский?"
Сегодня зашел ко мне полковник Иваненко, жандарм, с целью узнать, убежденный ли я "эсдек", и, в случае чего, предложить пойти на службу к ним... "Может быть, вы разочаровались?" Я спросил его, не слышал ли он когда-либо голоса совести и не чувствовал хоть когда-нибудь, что защищает дурное дело...
В том же коридоре, в котором нахожусь я, сидит предатель - рабочий-слесарь Михаил Вольгемут, член боевой организации ППС, захваченной под Соколовом после кровавого нападения на почту, во время которого было убито шесть или семь солдат. Когда жандармы перехватили его записку к товарищам с просьбой отбить его, начальник охранки Заварзин уговаривал в течение десяти часов, обещая в награду за предательство освободить его, - и он сделался предателем. К делу было привлечено двадцать семь человек, в том числе семнадцатилетние юноши и девушки. Я вижу его на прогулке; он ходит угрюмый, пришибленный и, насколько я смог заметить, никогда не разговаривает с товарищем по прогулке и ни с кем не перестукивается...
...Где выход из ада теперешней жизни, в которой господствует волчий закон эксплуатации, гнета, насилия? Выход - в идее жизни, базирующейся на гармонии, жизни полной, охватывающей все общество, все человечество; выход - в идее социализма, идее солидарности трудящихся. Эта идея уже близится к осуществлению, народ с открытым сердцем готов ее принять. Время для этого уже настало. Нужно объединить ряды проповедников этой идеи и высоко нести знамя, чтобы народ его увидел и пошел за ним. И это в настоящее время насущнейшая из задач социал-демократии, задач той горсточки, которая уцелеет.
Социализм должен перестать быть только научным предвидением будущего. Он должен сделаться факелом, зажигающим в сердцах людей непреодолимую веру и энергию...
Небольшая, но идейно сильная горсть людей объединит вокруг себя массы, даст именно то, чего им недостает, что оживит их, вселит в них новую надежду, рассеет страшную атмосферу недоверия и жажду кровавой мести, которая обращается против самого же народа.
Правительство убийц не повернет жизнь в старое русло. Не пропадет даром пролитая кровь ни в чем не повинных людей, голод и страдания народных масс, плач детей и отчаяние матерей...
...Уже поздно... Я хочу вести здесь правильную жизнь, чтобы не отдать им своих сил. А я чувствую, что у меня столько сил, что кажется - все выдержу и вернусь. Но если даже я не вернусь, этот дневник дойдет, быть может, до моих друзей, и у них будет хоть частичка моего "я", и у них будет уверенность, что я был спокоен, что я звал их в момент тишины, печали и радостных дум и что мне хорошо настолько, насколько здесь может быть хорошо.
...Вчера и сегодня мною овладело какое-то беспокойство, дрожь, тревога... Отчего? Не знаю. Но мысли не могут сосредоточиться, бьются и мечутся, как лоскутья, гонимые ветром.
Опять был у меня полковник Иваненко. Увидав его, я задрожал, словно почувствовал противное, скользкое прикосновение змеи к своему телу. Он пришел с тем, чтобы любезно сообщить: дело передано в военный суд, обвинительный акт уже послан мне; расспрашивал, есть ли у меня книги, как здесь кормят, уверял, что будь его воля, он бы устроил в тюрьме театр. А когда я вновь спросил его, не заговорила ли в нем совесть, он с сочувствием и соболезнованием в голосе ответил, что я не в себе.