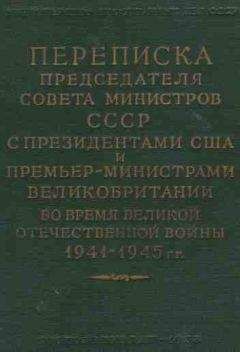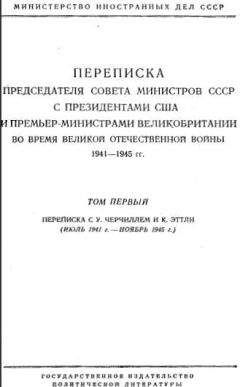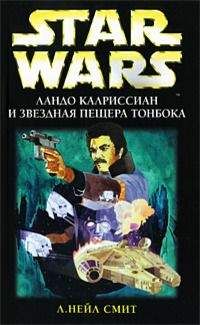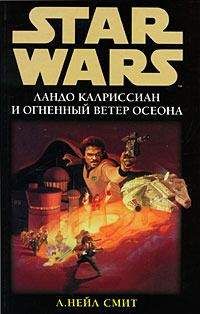День начался спокойно. Первым выступил кадетский лидер П. Н. Милюков. Он старался досадить правительству, но сбивался на мелочи, забывая главное — правительственную декларацию. Потом выступали Сагателян, Пуришкевич, — и все было скучно, уже известно.
О том, что случилось потом, было напечатано сообщение в газете «Новое время».
«После небольшого перерыва на трибуну поднялся г. Родичев. Он начал с повторений доводов г. Маклакова, перешел на гражданские мотивы о патриотизме, национализме и заканчивал защитой польских интересов. Слова оратора: „Мы, любящие свое отечество... мы, защищающие порядок...“ вызвали смех на скамьях крайней правой, и оттуда в ответ часто слышались напоминания о выборгском воззвании. Выкрики с мест, не прекращавшиеся несмотря на неоднократные замечания председателя, видимо, еще сильнее взвинчивали г. Родичева; он становился все более и более резким, теряя самообладание, злоупотреблял жестикуляцией — и, не находя подходящих выражений, выбрасывал неудачные афоризмы.
Когда г. Родичев, вспоминая выражение Пуришкевича о «муравьевском воротнике», сказал, что потомки его назовут это «столыпинским галстуком», зал в одно мгновение преобразился. Казалось, что по скамьям прошел электрический ток. Депутаты бежали со своих мест, кричали, стучали пюпитрами; возгласы и выражения негодования сливались в невероятный шум, за которым почти не слышно было ни отдельных голосов, ни звонка председателя. Полукруг перед трибуной мгновенно наполнился депутатами, а сидевшие позади оказались в первых рядах.
— Долой, вон, долой!
— Не расстались со своим Выборгом! Выгнать его немедленно вон!..
— Нечестно, подло!.. Вы оскорбили представителя государя...
— Мерзко, недостойно члена Думы, недостойно высокого собрания... Крики неслись со всех сторон. Октябристы, умеренные, правые все столпились около трибуны, к которой тянулись десятки рук, и казалось, что зарвавшегося, забывшегося г. Родичева моментально силою стащат с трибуны. Несколько человек уже стояло за пюпитрами секретарей, а г. Пуришкевич порывался бросить в г. Родичева стаканом.
Н. А. Хомяков начал было звонить, но когда увидел, до какой степени разгорелись страсти, покинул трибуну и прервал заседание... За председателем удалились и остальные члены президиума.
Взволнованный, бледный П. А. Столыпин при первых же криках встал со своего места и, окруженный министрами, вышел из зала почти одновременно с Н. А. Хомяковым. За председателем Совета министров тотчас же поспешило несколько депутатов. Родичев все еще стоял на трибуне, краснел, бледнел, пробовал что-то говорить и затем будто замер, видя, что его выходкой возмущена почти вся Дума, за исключением, может быть, небольшой кучки лиц.
Наконец сквозь ряды депутатов к кафедре протискивается высокий старик, кадет г. Покровский, и прикрывает руками г. Родичева, который при несмолкавших криках: «Вон!», «Долой!», «Вон!» спускается к своему месту и затем, окруженный кадетами, выходит в Екатерининский зал.
Едва трибуна освободилась, на нее вбегает г. Крупенский, стучит кулаками и переругивается с левыми. Г. Шульгин старается увести не в меру разгорячившегося депутата.
— По фракциям, по фракциям! — раздаются возгласы, и депутаты с шумом покидают зал.
— Два года не дают работать...
— Оставались бы себе в Выборге, коли не отучились ругаться...
— С первых шагов снова делают скандалы...
Это все больше голоса крестьян, которые более всех других были взволнованы и удручены скандальной выходкой и сыпали по адресу кадетов весьма нелестные замечания.
Сами кадеты только разводили руками и почти не находили оправданий для непонятного выступления своего лидера... Он не обобщал, а говорил лишь о потомках г. Пуришкевича — только и могли сказать кадеты, видимо, крайне недовольные скандальным инцидентом.
Во время перерыва правые, умеренные и октябристы в своих фракционных заседаниях приходят к одинаковому решению — применить высшую меру наказания и исключить Родичева на пятнадцать заседаний.
Н. А. Хомяков, не желая допустить никаких прений, предвосхитил это, и Дума громадным большинством против 96 голосов левых, поляков и кадетов исключает г. Родичева на 15 заседаний.
Н. А. Хомяков перед этим с большим достоинством напоминает, что в руках депутатов священный сосуд, неприкосновенность которого каждый должен хранить, как самого себя.
Г. Родичев в большом смущении произносит свои извинения и просит верить в их искренность. Позднее раскаяние хотя и смягчает вину, но прискорбного, непозволительного факта не изменяет. Если его и могло что сгладить, то разве те бурные овации, которые Дума под конец устраивает П. А. Столыпину, остававшемуся на своем месте до конца заседания.
Выходка г. Родичева произвела на всех депутатов тягостное впечатление.
— К чему это? Чем это объяснить? — спрашивали со всех сторон.
— Какое недостойное, возмутительное оскорбление!..
Депутаты волновались, не могли скрыть негодования, не находили оправданий, разводили руками и пеняли, главное, на то, что снова Думе ставятся препятствия при первых ее шагах.
— И зачем только все это говорят? — недоумевали крестьяне. Затем г. Милюков и г. Пуришкевич по целому часу говорили: что, от этого мужицкий хлеб станет белее, что ли? Школы сами настроятся, разбои и грабежи прекратятся?..
— Они хотят в Думу эти пожары перенести...
— Много ли на пятнадцать заседаний!.. Я бы для острастки на всю сессию исключил, — разошелся какой-то депутат, недовольный, что в наказе нет высшей меры наказания.
Во время перерыва стало известно, что председатель Совета министров, взволнованный неожиданным оскорблением, потребовал от г. Родичева удовлетворения.
В комнату председателя Думы Н. А. Хомякова явились двое министров, г. Харитонов и г. Кауфман, и просили передать об этом г. Родичеву, который и не заставил себя ждать. Извинение происходило в присутствии министров, Н. А. Хомякова и саратовского депутата Н. Н. Львова.
Г. Родичев признавался, что он совершенно не имел в виду оскорбить главу кабинета, что он искренне раскаивается в своих выражениях, которые не так были поняты, и просит его извинить.
— Я вас прощаю, — сказал П. А. Столыпин, и объяснение было окончено.
П. А. Столыпин, как передают, был при этом крайне взволнован, а г. Родичев казался совершенно подавленным.
Известие о том, что председатель Совета министров принял извинение, быстро облетело залы и внесло первое успокоение».
К этому эпизоду старшая дочь Столыпина добавляет, что отец не подал Родичеву руки и смерил его презрительным взглядом с головы до ног. Он знал, что Родичев понимает, что говорит неправду о «столыпинских галстуках», что это клевета в интересах партийной борьбы. Для Столыпина такое двоедушие было нестерпимым. Но если бесстрастно посмотреть на случившееся, то бросится в глаза безрассудство, с которым Реформатор отнесся к выпаду Родичева. Оно по-человечески объяснимо и выдает его с головой.
История впоследствии занесла эти «галстуки» в наши школьные учебники. Точно так же, как и вагоны, созданные специально для удобного переселения крестьян из европейской России в Сибирь. В 20-30-е годы они использовались для перевозки заключенных и тоже были историей соответственно перекрашены из «столыпинских» в тюремные.
Россия изменилась. И громко звучали голоса против «самобытного, особого пути России», за которым подразумевался, увы, застой и который был идейно близок самому Петру Аркадьевичу. Особенно озабочены были промышленные круги, видевшие в правительственной политике перекос в сторону сельского хозяйства.
Приведем несколько цитат из докладов и отчетов Союза промышленных и торговых предприятий России (по книге Л. Шепелева «Царизм и буржуазия в 1904-1914 гг.»):
«В нашей... прессе даже из-под перьев заправских экономистов и мыслящих людей то и дело выдвигается гонение против всего того, что связано с развитием, доходностью и поддержкой нашей обрабатывающей, горной и даже мелкой промышленности. А слово „промышленник“ по „крепостнической традиции“ сделалось синонимом слов „мошенник“, „кровопийца“, „эксплуататор“ и прочих не менее лестных определений. Такая практика вошла в плоть и кровь нашего общественного мышления».
«Мировой опыт поучает нас, что интенсивное сельское хозяйство возможно лишь тогда, когда в стране достаточно сильно развиты промышленность и торговля и, наоборот, не может быть и речи о здоровом развитии промышленности и торговли там, где нет устойчивого сельского хозяйства».
«...отечественная фабрично-заводская промышленность не нуждается в государственных ассигнованиях. Она сама себе проложит путь, если только государственная власть не будет ее подавлять».
«Заграничный капитал, выводя нас из состояния данников иноземной промышленности, в конечном итоге способствует возникновению национального капитала».